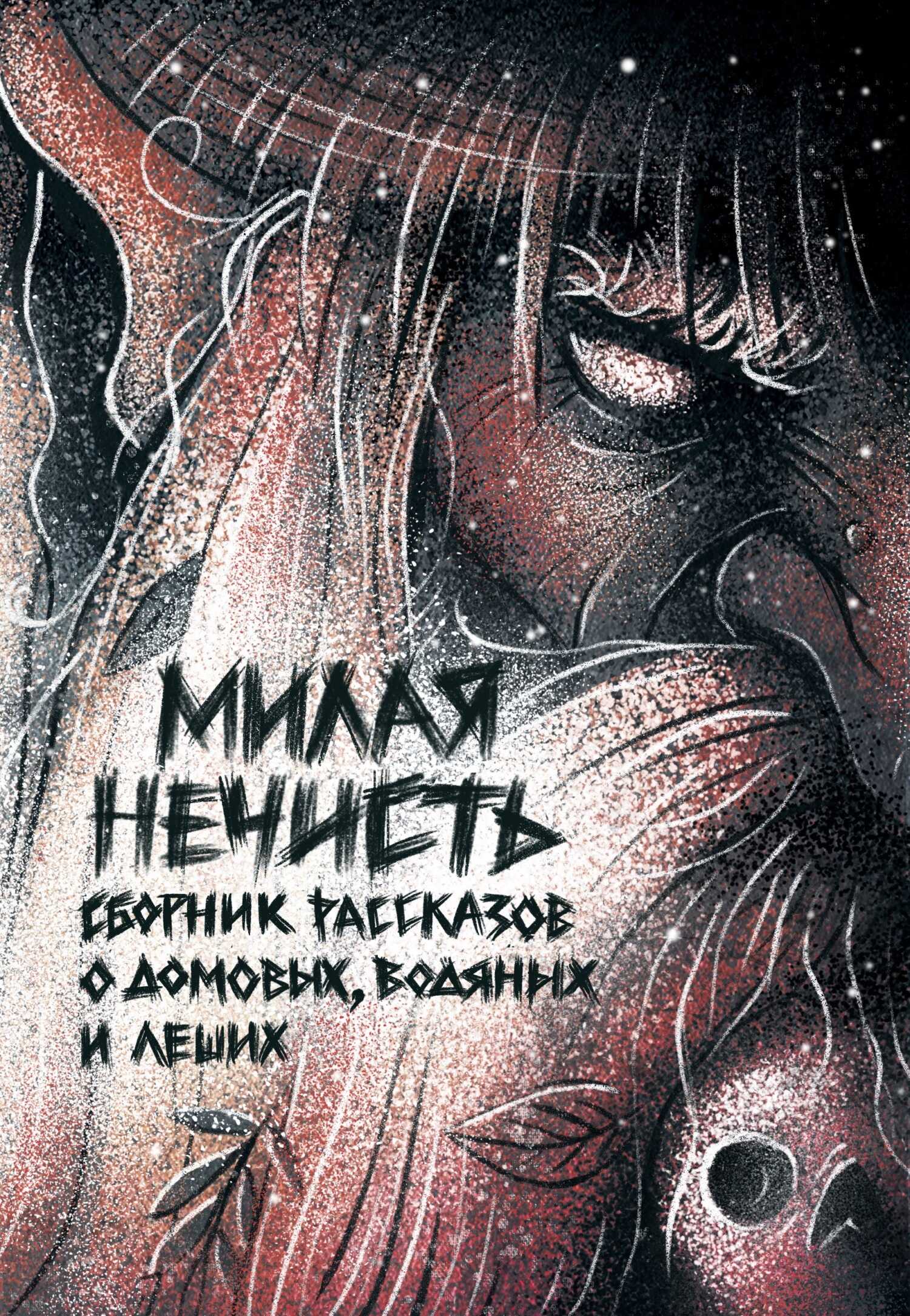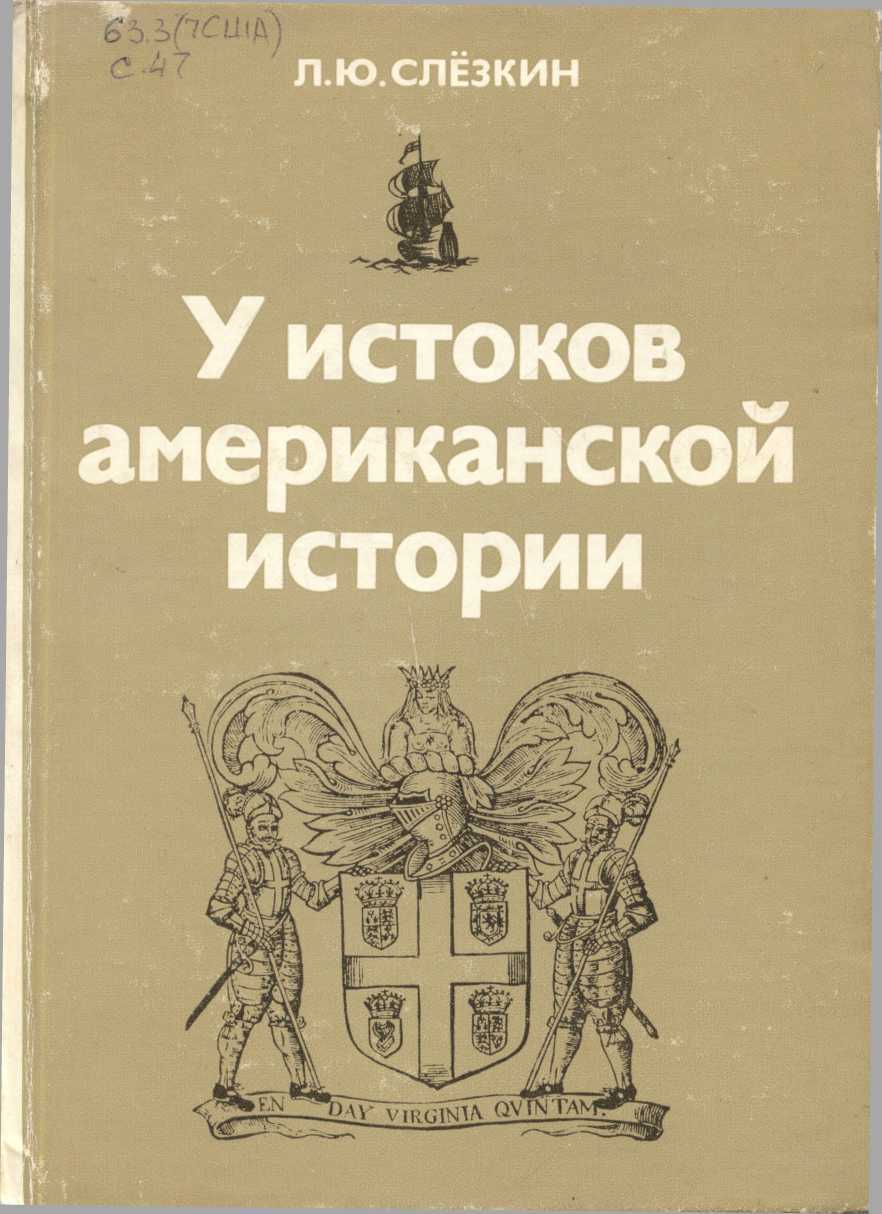ни суду, ни адвокатам, ни Панчухе, ни собственной жене. Он одинок, а это страшно…
Когда у часовни святого Урбана Негреши ударил в колокол с детским голоском и отзвонил полдень, Сильвестр вышел во двор и спустил с цепи своих догов. Одичав на привязи, они как обезумевшие забегали по просторному двору. Глаза у них налиты кровью: вот-вот набросятся! Когда они в таком состоянии, с ними не справиться ни Эве, ни работникам, ни служанкам. Только перед ним, перед Сильвестром, смиренно ложатся они на брюхо, подползают скуля.
Недовольный вернулся Сильвестр к себе в комнату. Поискал что-то, видимо очень нужное. Взор его упал на ружье. Снял со стены… прокрался к двери. Но тут в окне мелькнула фигура коровницы, глазастой девки… Сильвестра передернуло от злости; он выругался. Но все же повесил ружье на место. Безоружный пошел он к амбару, что стоит вдалеке у дороги, ведущей к каштанам. Все, что придумывал он долгими ночами, показалось ему теперь слишком опасным. Как жаль, что сейчас не ночь! Дело его боится дневного света.
Урбан возвращается от каштанов с кустами шиповника в мешке; полдень застиг его здесь, и ему не хочется идти в обход, вокруг Оленьих Склонов. Он пошел прямо по дороге, обсаженной сиренью. Душа его полна Кристиной, детьми. Насвистывая, размахивает Урбан мотыгой, всматривается в глубь Волчьих Кутов, где за деревьями белеет домик с красно-голубой каймой. Всюду покой и тишина.
Всюду ли?
Возле Болебрухова амбара слух его поразило странное рычание. Урбан прислушался. Тишина… Сделал несколько шагов — рычание стало слышнее. Урбан оглядел стены амбара, сбитые из горбылей, широкую дверь. Он уже собрался идти дальше, не обращая внимания на такой пустяк, — но тут испуг пригвоздил его к месту. Едва ли в десяти шагах перед ним — Сильвестровы псы! Приближаются молча, без лая, грозно… Глаза налиты кровью, оскаленные клыки сверкают. Из амбара ясно послышалось науськивание Болебруха.
Урбан мигом все понял. Жилой дам Болебруха далеко. Кричать нет смысла. Кто в доме — не услышит; а тот, в амбаре, — тем более. Псы, увидев мотыгу, разделились: один подступает спереди, другой обежал кругом — с явным намерением напасть сзади. Урбан следит за ним, скосив глаза через плечо, ожидает броска. Он спокоен. Повадки догов он знает хорошо. Он может поклясться — оба кинутся одновременно. Поэтому он не снимает со спины мешок.
Урбан успел расслышать, как Болебрух из амбара натравливает собак, — и в ту же секунду пятнистое тело второго дога оторвалось от земли. Урбан, уже готовый прыгнуть сам, рванулся вперед и, сильно взмахнув мотыгой, обрушил страшный удар на голову стоявшего перед ним дога. Удар настиг животное уже в прыжке и отбросил его в сторону. И тут же Урбан почувствовал, как на спину ему всей тяжестью навалился второй пес. Прыжок был рассчитан так, чтобы вцепиться в шею человека, но движение Урбана и сброшенный со спины мешок сбили собаку с толку: она ухватила зубами только ворот куртки и разорвала его сверху донизу.
Опасность для Урбана миновала. Он обернулся к бешено лающей собаке, которая, потеряв союзника, держалась теперь на почтительном расстоянии. Попятившись, Урбан добил издыхающего дога, растянувшегося у обочины, и тогда услышал резкий свист со стороны амбара. Второй пес убежал.
Урбан поднял свой мешок и, весь потный, двинулся к дороге, обсаженной сиренью. Кровь шумела у него в голове, руки и ноги тряслись. Яростно бранясь, он шагал, упрямо стиснув зубы, взбешенный и униженный. Под окнами Сильвестрова дома остановился, подумал и вошел в палисадник. Резко постучал в среднее окно. Служанка открыла раму, но Эва, с маленькой Люцией на руках, увидела Урбана и отстранила девушку.
— Ну, испугал ты меня! — проговорила она.
— Где Сильвестр? — гневно спросил Урбан.
— Случилось что? — встревожилась Эва.
— Скажи ему, что он — собака! — медленно, чтоб Эва запомнила, произнес Урбан.
— Господи боже!..
— Так и скажи! Натравил на меня обоих своих собачьих братьев. Одного-то я мотыгой уложил…
И он пошел вниз по обсаженной кустами сирени дороге, все еще взволнованный, но уже ничему не удивляющийся. Сложив кусты шиповника в своем саду, прикрыл их корни землей. Умылся у колодца, снял разодранную куртку и вошел в дом. Кристина, услыхав, что пришел Урбан, накрыла на стол; между тарелками и мисками Она поставила стакан с распустившейся веточкой вербы. Последние отзвуки злобы утихли в душе Урбана.
— Смотри, что я в шиповнике натворил! — показал он ей разорванную куртку.
— Ой, как же ты?.. — удивилась Кристина, покачала головой.
— И Сильвестрову собачищу мотыгой убил…
— Батюшки! Мотыгой!.. А сам-то целый? Не обманываешь? Ничего с тобой не случилось? — лепетала в испуге Кристина.
— Что может случиться с мужчиной, коли у него мотыга в руках? — такими словами покончил Урбан со всей этой историей, которая вдруг показалась ему до того гадкой и гнусной, что подло было бы грязнить ею еще и Кристину.
Эва Болебрухова сначала возмутилась. Гневно затворила она окно; Урбан как раз выходил из палисадника, и Эва заметила, что из-под мешка с кустами, который он нес на спине, белеет рубашка и свисает длинный клок разорванной куртки. Это заставило ее задуматься. Теперь она начала допускать, что не зря обругал Габджа ее мужа. Она вернулась к окну, не спуская с рук расплакавшуюся полуторагодовалую Люцию. Конюх и скотник за столом явно к чему-то прислушивались. А служанка с коровницей шушукались у плиты. На столе — почти полная миска лапши с маком, но никто не ест. Один Иожко, трехлетний Болебрух, трудится за всех, ручонками запихивает себе в рот еду.
— Где хозяин? — спросила Эва работников.
Те пожали плечами, зачерпывая ложками прямо из миски.
— Я же велела позвать его! — с укором обратилась Эва к служанке.
— Не было их нигде! — возразила та тоном, в котором совсем не чувствовалось виноватости, — так она отвечала всегда, когда хозяйка требовала от нее невыполнимого.
— Куда же он запропастился?
— К амбару пошли. Сперва спустили собак, еще в верхнюю горницу заходили, а потом к амбару пошли! — выпалила коровница.
Эву кинуло в жар. В глазах помутилось, но она успела опуститься на стул и передать Люцию служанке. Выкатив глаза, она с трудом переводила дух.
— Воды!..
Подбежали к ней, обрызгали водой. Дети захныкали. Это привело Эву в чувство. Встала, походила по кухне, бормоча что-то неразборчивое; наконец ее, уже заметно раздавшуюся в талии, служанки увели в верхнюю горницу. Совсем без сил легла она на кровать. Беременность сделала ее раздражительной до крайности, и глаза у нее вечно на мокром месте. Но сегодня даже слезы не помогают. Слезами не откупишься от того, что вызвало дурное настроение.


![Красное вино Победы[сборник 2022] - Евгений Иванович Носов](/uploads/posts/books/346516/346516.jpg)