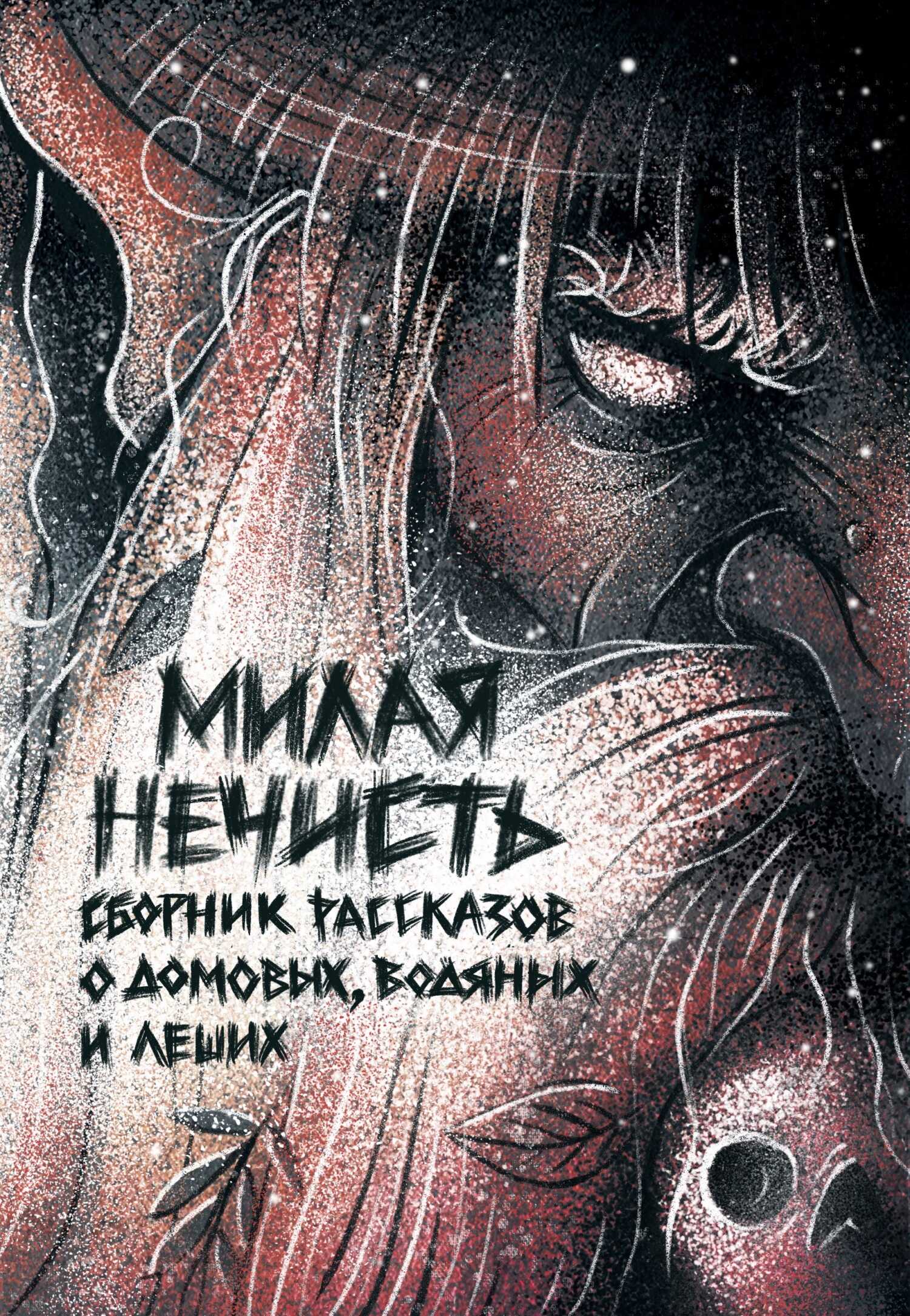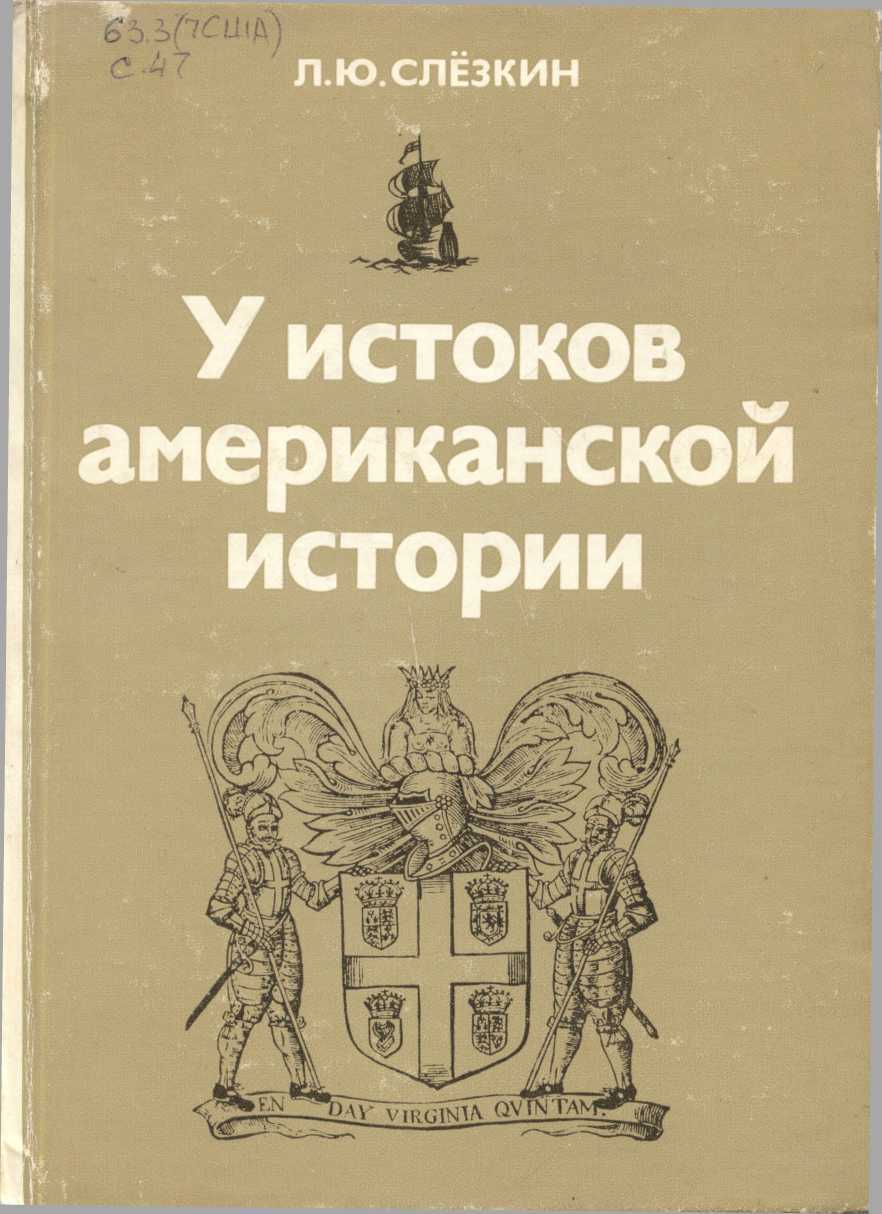class="p1">Когда Сильвестр вошел в кухню, служанки развлекали детей, работники поспешно ели, торопясь поскорее убраться в конюшню. Хозяин почуял: не только у амбара — и здесь произошло нечто необычное. Он понял это по испуганным лицам работников.
— Хозяйка где? — процедил он сквозь зубы.
— Лежат в верхней горнице…
— Худо им стало…
— Вот как! Худо! Отчего бы это? — заставил он себя спросить, в то же время обводя служанок язвительным взглядом.
Работники — ни гугу! И есть не едят, и от стола не встают. Неприятен им тон хозяина. Переглянулись.
— Пойдем?..
— Пошли…
Но Сильвестр не может допустить, чтоб люди разбежались, пока он точно не узнает, что произошло.
— Я спрашиваю, что тут было? — крикнул он, переводя злобный взгляд со служанок на работников.
Утихшие дети снова расплакались. Это немного смутило Болебруха; он понизил голос:
— Ну, говорите же!
— Дядюшка Габджа постучали в окно и сказали хозяйке…
— Он посмел!.. Что сказал-то? — перебил Сильвестр служанку.
— Дядюшка Габджа с Волчьих Кутов…
— Заладила «Габджа» да «Габджа»! Что он сказал-то?
— Они сказали…
— Да говори же наконец! — уже вне себя рявкнул Сильвестр.
Дверь из верхней горницы распахнулась, вошла Эва. Сильвестр все тем же бешеным взглядом смотрел, как вышла она, грузная, на середину кухни, как остановилась перед ним с полунасмешливым, полустрадальческим лицом, бледная — ни кровинки. Чем дольше, однако, молчала Эва, тем более остывал Болебрух. На лбу его выступил холодный пот. Он сел на хозяйское место у стола и указал на дверь. Работники мигом высыпали во двор, служанки с детьми убрались в верхнюю горницу.
С минуту длилось тяжкое молчание. Стенные часы громко отмеряли время. Хозяин склонил хмурое, уже растерянное лицо. Хозяйка стояла перед ним, не зная, с чего начать: огромное множество слов теснилось у нее в уме, но она выбрала только те, что болью отдавались в душе:
— Кто спустил собак?
— Каких еще собак? Сами сорвались, сволочи! — упрямо буркнул Сильвестр.
Но Эва по оттенку его голоса поняла, что муж изворачивается, что вопрос ему неприятен. Она вспыхнула.
— Ах, сами сорвались!.. И это ты говоришь мне, своей жене? И не стыдно тебе в глаза мне глядеть?
Это не совсем так: Сильвестр и не смотрит ей в глаза. Он испуганно прячет свои глаза, избегая взгляда жены, глядит в сторону.
— Я-то при чем, если собаки сорвались с привязи? — пробормотал он уже без всякой злобы.
Вся кровь бросилась Эве в голову от такой подлости мужа. Властно швырнула она ему в лицо:
— Ты сам отвязал их! Коровница тебя видела!..
«Стерва!» — чуть не сорвалось с языка Болебруха, но он сдержался, отвернулся к окну.
— Хочешь знать, что сказал Габджа?
Сильвестр молчал.
— Что ты — собака! — с ненавистью прошипела Эва и пошла к себе, но у двери остановилась, ожидая, что ответит муж.
Тот молчит… Даже голову от окна не повернет. Только нервно потряхивает ею, словно его что-то душит. Ноги его дрожат, руки сжимаются в кулаки. Продолговатое, с резкими чертами лицо становится страшным. Он знает, что Эва стоит на пороге, следит за ним, видит его насквозь, — все угадала. И он каменеет от стыда, смешанного со злобой. Быть может, вздумай он сейчас встать или отвернуться от окна — не хватило бы сил. И все же он поступает так, как поступают люди, которым во что бы то ни стало хочется сохранить хоть видимость былого самоуважения.
— Я на него в суд подам! — вырвалось у него.
Эва уже до конца разгадала мужа. Разом стало ясным многое из поведения Сильвестра за последние два года. Эва не настолько в плену страсти, чтобы утратить здравый смысл. Но то, что недавно разыгралось на Оленьих Склонах и что сейчас завершается тут, в болебруховской кухне, сломило ее. Сердце сжал непонятный холод, и все, что было ей дорого, казалось, уплывало сквозь пальцы. Глубокая скорбь охватила Эву — оттого, что рвется и развязывается то, чем так крепко были связаны они оба. Она заплакала.
— Чего ревешь? Что, мне терпеть, когда всякие голодранцы меня собакой обзывают?
Эти слова не могут успокоить Эву. Приникнув головой к косяку, она, жалобно всхлипывая, выговаривает:
— Спустил с цепи собак, а они и быка одолеют… натравил на невинного человека… а все потому, что он тебе поперек дороги стал…
— Эва! Перестань! — гаркнул он.
— Ах, Сильвестр, Сильвестр! — горестно воскликнула она.
Она услышала, как он встает, — наверное, хочет подойти…
— Не подходи ко мне! Он не остановился.
— Габджова Кристина у тебя в голове! Вот почему пришлось Урбану с твоими псами драться! — в отчаянии крикнула Эва и, распахнув дверь, скрылась в горнице.
Когда он подбежал к двери — услышал только скрип ключа. Ему хотелось колотить ногами в дверь, сорвать ее, хотелось выругаться самыми гнусными словами, какие он только знал, хотелось разбить, сломать что-нибудь ценное, единственное… Но нет! Острым болебруховским разумом подавил он чувство, взметнувшееся из сердца. Сгорая от стыда, трусливо вышел из кухни во двор. Машинально, почти как слепой, побрел к погребу.
Плечом отворил окованную дверь.
И именно в эту минуту явился Шимон Панчуха. Вряд ли нашелся бы более подходящий собеседник для Сильвестра в его теперешнем расположении духа. Вместе сошли они под землю, в царство винных бочек.
ШИМОН ПАНЧУХА
Сухонький, малорослый, злобный. Возраст неопределенный, дать сорок — мало, шестьдесят — много. В общем, нечто такое, что удачнее всего определяется словом плюгавый. Однако такое слово тут вовсе не к месту, потому что человечишко этот — владелец многих виноградников, садов и пашен. Ему, следовательно, по праву полагается быть волчиндольским выборным и казначеем, и пить с утра до вечера, и драться с каждым, кто встанет у него на пути. Таков Шимон Панчуха.
Свою супружескую половину, бездетную свою Серафину, Шимон не бьет: она на голову выше его и сильна, как Валидуб. Половина эта держит Шимона вечно под хмельком: в таком приподнятом настроении он лучше всего надзирает за батраками и за приемышами — мальчишкой и девчонкой. Серафина не любит, когда муж трезв: тогда он труслив и робок.
Сирот, мальчишку и девчонку, что в свое время легли обузой на плечи деревни Святой Копчек, Панчухи взяли к себе, будто бы для усыновления, и всячески стараются превратить их во вьючных животных. Держат их в рабстве и лишениях, хотя оба уже почти взрослые. А чтоб легче было с ними управляться, Панчухи вбивают приемышам в голову, что когда-нибудь все перейдет к ним по наследству, и тогда они смогут делать что их душе угодно. «Вьючные животные» верят этому, и им нипочем, что старые сквалыги возят на них воду.


![Красное вино Победы[сборник 2022] - Евгений Иванович Носов](/uploads/posts/books/346516/346516.jpg)