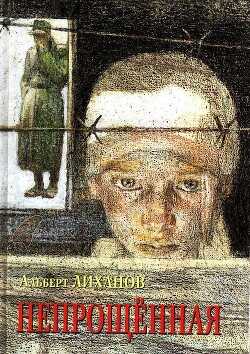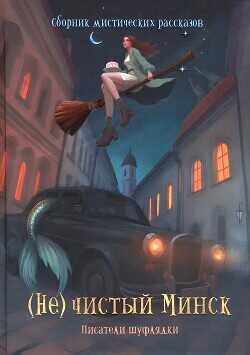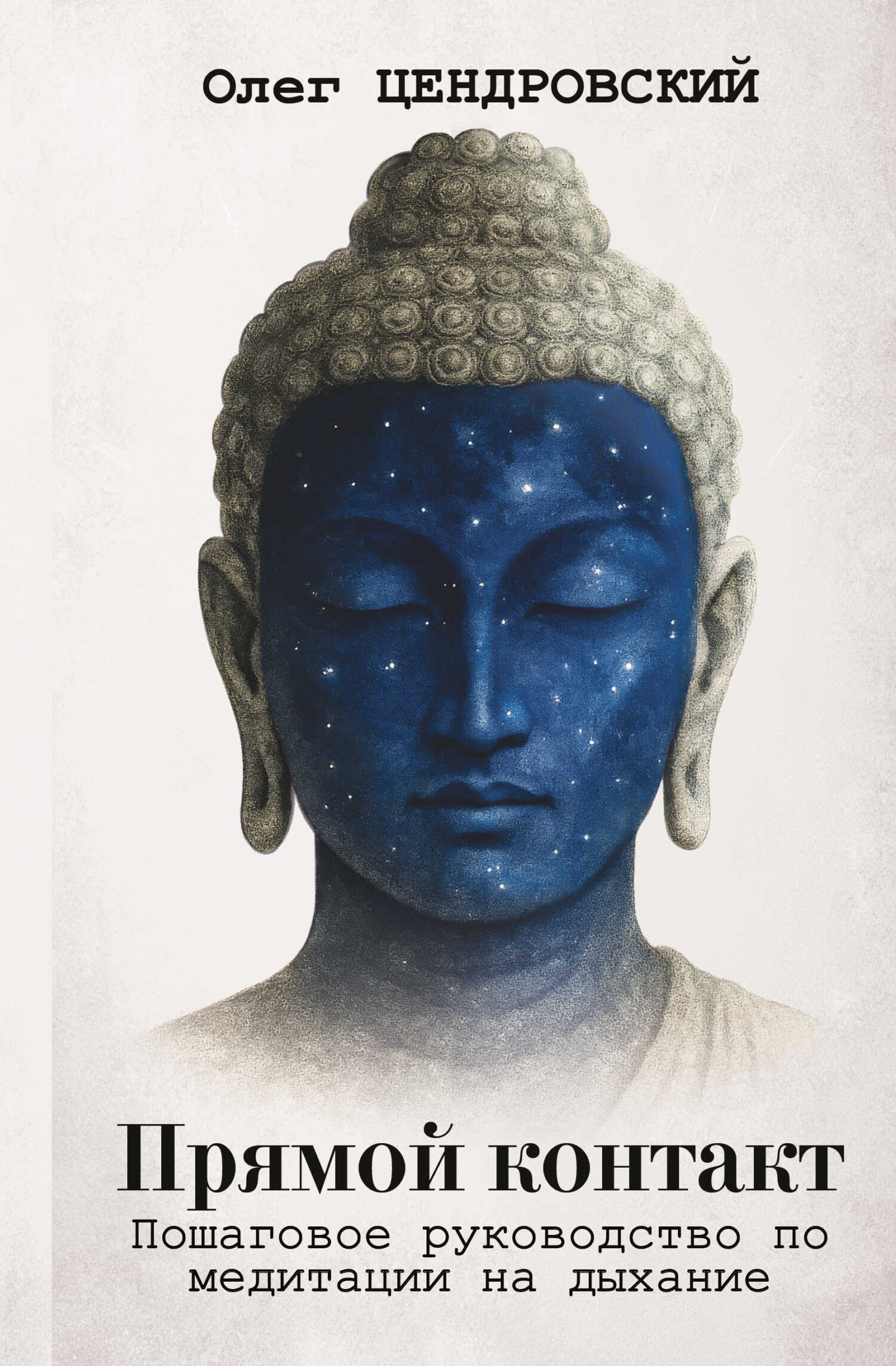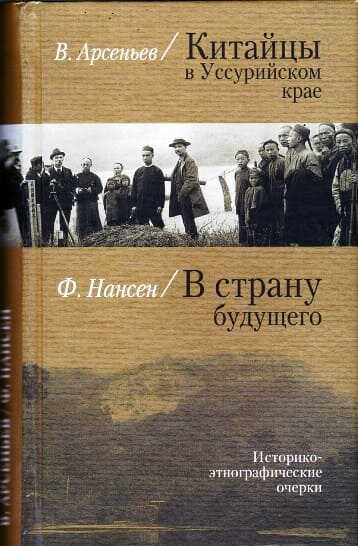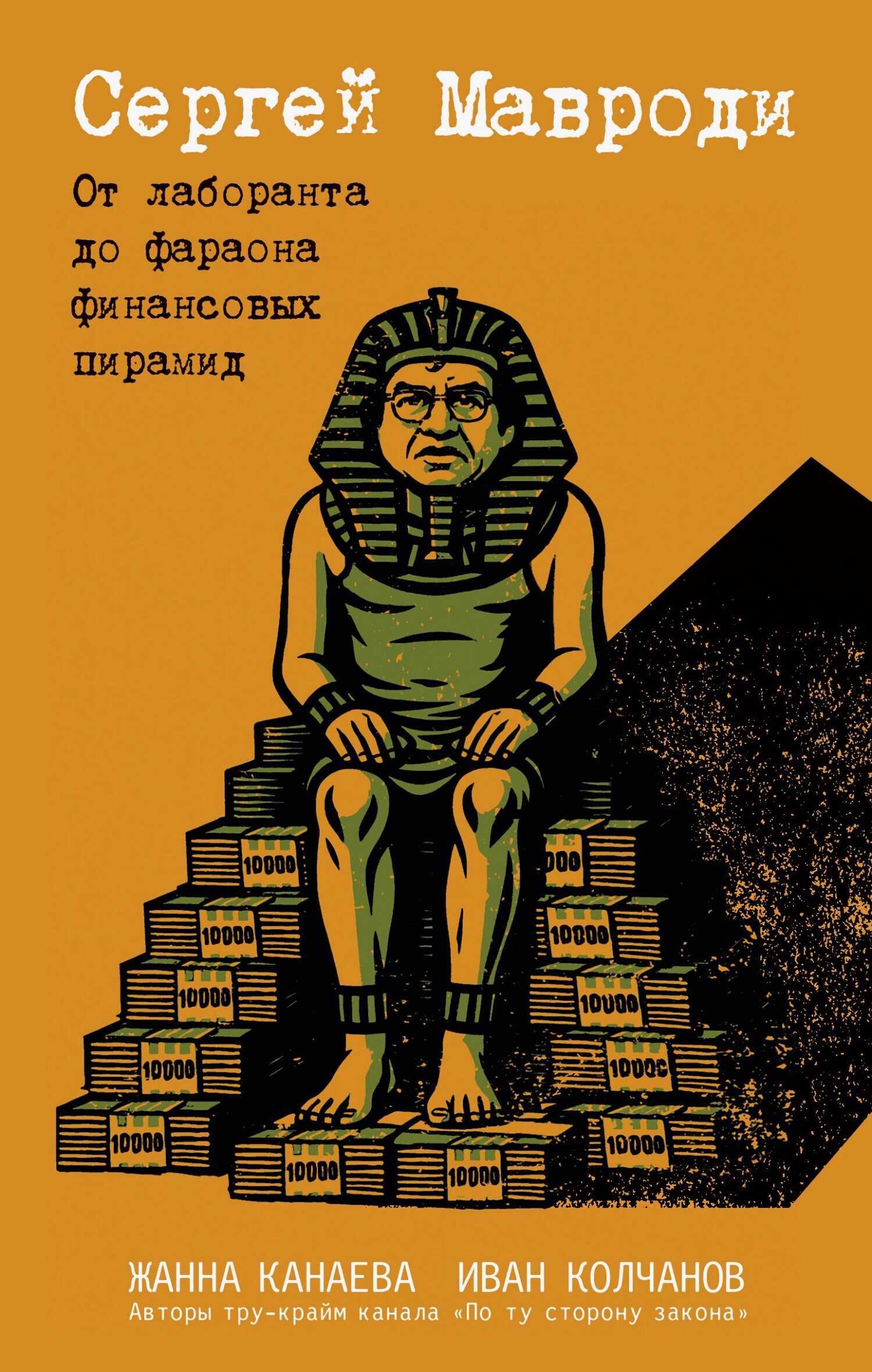Долгие годы глинистое тело твое то желтело, нагое, то одевалось в зеленый наряд. Пахло тимьяном и бузиной. Тридцать девять видов трав боролись в лоне твоем с быльем и пыреем. Терн и боярышник давно проиграли жестокую прю с вязом и кленом. Да и вязов-то не осталось у тебя на дне, и клены не цепляются больше за твои бока! И последний волчий вой стих на горбатых Волчьих Кутах. Только в имени твоем живет еще отзвук этого воя…
Ах ты мой древний Волчиндол!
Ты слышал шаги людей, которые жгли и корчевали лес, чтобы положить основание Сливнице и Углиску, Блатнице, Охухлову и Зеленой Мисе. Ты слышал крики воинов, что рубились во имя мерзавцев королей, убивали во имя креста и шли на смерть во имя свободы. Но что было проку от их побед, если на место одного коронованного мерзавца вставал другой, и снова на спину народа взваливали крест, и возвращалось рабство? Свистели здесь бичи надсмотрщиков. И выходили на разбой лесные братья. Попы благословляли озимь и отпускали людям их грехи. Холера и чума проводили здесь страшную свою вербовку. Поныне из-под вспаханной земли — там, где некогда хоронили холерных, — рвется наружу зловещий треск ломающихся человеческих костей…
Знатные рыцари и их оруженосцы топтали эту вязкую глину. Муравьями ползали по склонам. С собачьей жадностью пировали у охотничьих костров. И беглым каторжникам с обрывками цепей на руках и ногах, и разбойникам с дубинками и пистолетами служил ты, Волчиндол, надежным убежищем. Но все это был сброд, недостойный человеческого имени.
А те трое, что явились с мотыгами и заступами, с детьми и женами, с собаками и со скотом, — что это были за люди?
К примеру — Грегор Болебрух, захвативший Оленьи Склоны, где поныне дает ростки его семя? Тот самый Грегор Болебрух, сильный, как бык, высокий, как дуб, и злобный, как волк! Он завладел Бараньим Лбом и обеими Пустошами — Короткой и Долгой, и обоими Виноградниками — Черешневым и Новым, и обеими Рощами — Старой и Молодой.
Брат его дородной жены, Мартин Панчуха, человечишка плюгавый и подленький, поставил себе дом на границе между Конскими Седлами и Волчьими Кутами. Да прихватил еще плодородные Воловьи Хребты. И оставил потомка. Еще более плюгавого и подлого.
Третий, Рафаэль Сливницкий, взял, что осталось: Волчьи Куты — кусок горбатой земли, да Чертову Пасть — большое болото у Паршивой речки. За долгие четверть века наносил пуды земли, засыпал провалы на Волчьих Кутах да так перекопал Чертову Пасть, что получилась сплошная путаная сеть канав и канавок. Потомство его следует примеру предка…
Ах ты мой Волчиндол винородный!
Все в тебе плодоносно и пышно: виноградные гроздья наливаются соками, спелые сливы отдают голубизной, левкои благоухают под окнами, птицы вьют гнезда в живых изгородях. Хранишь ты и пестуешь несказанную преданность и любовь. Но скрыто в тебе и много такого, что несет человеку страданье, — мороз и град, грибки-паразиты и тля, тяжбы и распродажи с молотка, и самое страшное — омерзительный смрад разложения живых сердец, из которых вытекла вся драгоценная влага — любовь к ближнему…
«ДУРАКИ НЕСЧАСТНЫЕ»
Утром, едва Михал Габджа, приземистый и суровый зеленомисский крестьянин, вышел из своего гордого дома, сын его Урбан и невестка Кристина, по девичьей фамилии — Святая, взялись, словно ребятишки, за руки и поспешили к нотариусу: подписали договор и вексель, приобрели тем самым дом в Волчиндоле с двумя небольшими виноградниками, Кристина вынула из-за корсажа тщательно завязанный мешочек и выложила из него на стол двадцать сотенных бумажек, выслуженных со слезами, вымоленных у родни в Подгае; поручители — Теофил Гржич и Доминик Палькович — подписались под обязательством выплатить к такому-то сроку еще полторы тысячи, и нотариус, многозначительно подмигнув молодой женщине, произнес:
— Та-ак! Ну, счастливо вам жить в этом доме и пользоваться им на здоровье! О-очень хорошая покупка…
Молодые Габджи вышли от нотариуса чуть побледневшие, какие-то опустошенные, сгорбившиеся… Им и самим трудно было разобраться, что легло на сердце большей тяжестью: то ли приобретенная собственность в Волчиндоле, то ли вексель на полторы тысячи крон, а может быть — та внезапность, с какой все это произошло.
А нотариус, оставшись один, положил пять Кристининых сотен в собственный карман, остальные спрятал в стол для бывшего владельца волчиндольской недвижимости, Иозефа Деограция, который, ко всеобщему изумлению, подался с семьей в Америку. Нотариус похлопал себя по карману, словно желая отряхнуть с себя прах не вполне благовидного поступка, и виновато пробурчал:
— Болваны… и те и другие!
Габджи возвращались домой не по деревенской улице — задами; да и оттуда нарочно свернули через Капустники и Конопляники к Паршивой речке. Как дошли до Вербняков на берегу — у Кристины застучали зубы. Заплакала… А на лбу Урбана набрякла жила — сердится на жену, зачем жалеет деньги. Так бы и шли они, плача и сердясь, если б жена не кинулась мужу в объятья. Губы у нее побелели, на глазах — слезы.
— Урбан!
Воплем утопающего прозвучал голос молодой жены.
— Кристинка!
Никогда еще не слыхала она, чтобы так нежно выговаривали ее имя.
— Ох, боюсь я, прямо дрожу вся…
И впрямь — трясется, как в ознобе.
— А ты не бойся, не дрожи! Знаешь ли, дитя божие, что это такое — собственный дом?
Все закружилось перед глазами Кристины. Ох, знает она, да как еще знает! И радуется, что вот теперь и Урбан понял это…
— Обидно мне, что ты думаешь, будто я по деньгам плачу. — И добавила, всхлипывая: — Я того ада боюсь, когда в верхней горнице дознаются, что мы с тобой натворили… Впору взять Марека в охапку да на крыльях в Волчиндол улететь! Пресвятая дева, помоги нам!
Стало быть, не о деньгах гложет ее тревога, а о той грозе, что разразится в гордом габджовском доме, как только татенька с маменькой узнают, что «дураки несчастные» снова пошли наперекор их воле и учинили еще одну глупость.
Зато Урбан теперь твердо уверен — его Кристина куда лучше, чем он думал. Он страшно рад этому. Сердце его стучит, как молот.
Громко смеясь, он берет жену на руки, на ходу баюкает свою длинноногую девчонку, а она не знает, что делать — вырваться или обвить руками голову мужа. Он пронес ее несколько шагов, опьяненную сладостной нерешительностью. Но чувства их сейчас так сильны, что нельзя их выразить обычным объятием. Урбан заглядывает жене в глаза и видит, как высыхают ее слезы. То девичья робость Кристины отходит под напором женской зрелости.
Урбан понял. И не успела она слово сказать, поставил ее на ноги и сам заговорил, будто


![Красное вино Победы[сборник 2022] - Евгений Иванович Носов](/uploads/posts/books/346516/346516.jpg)