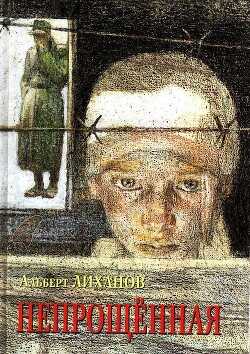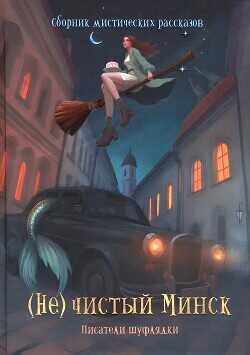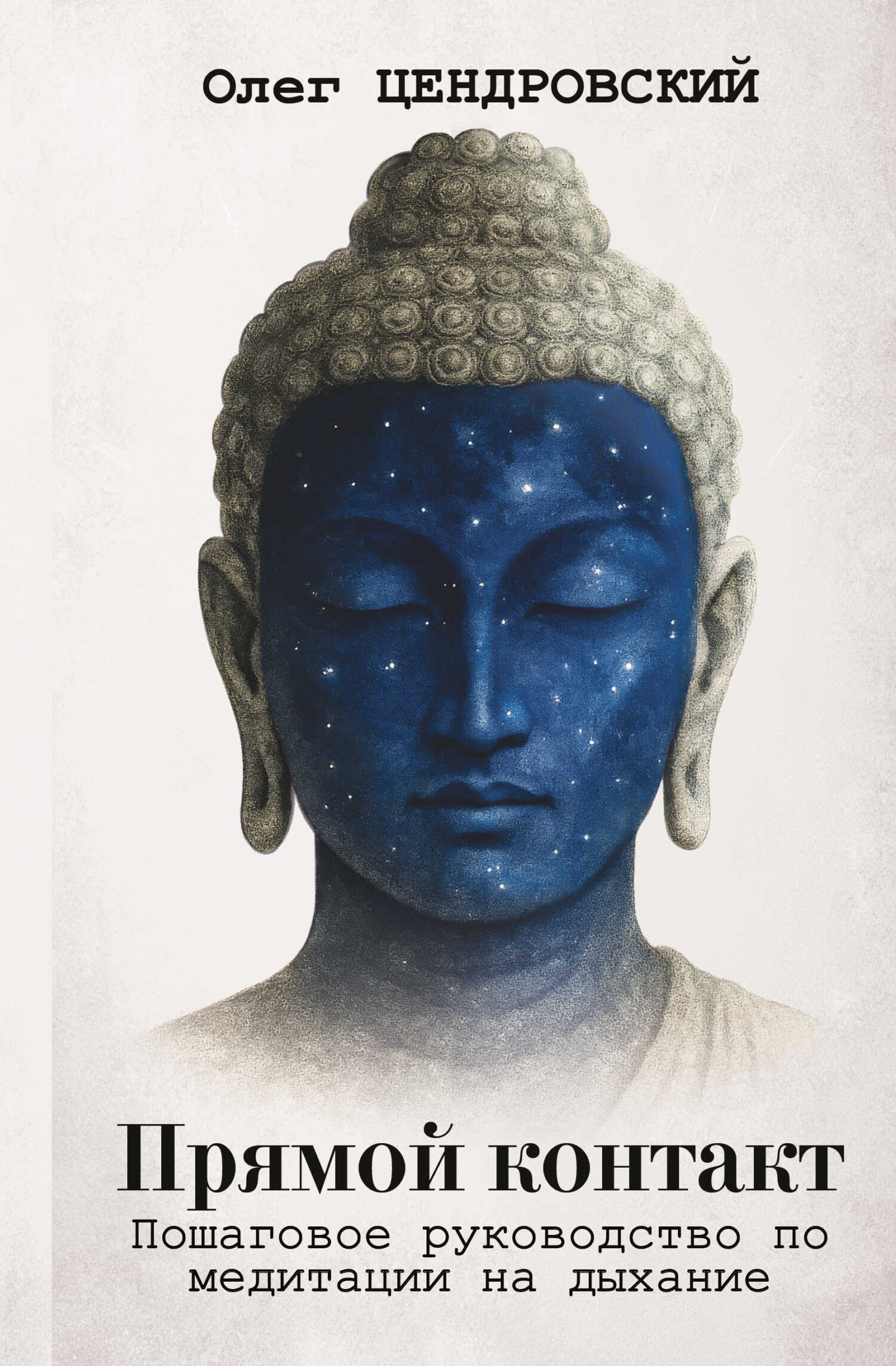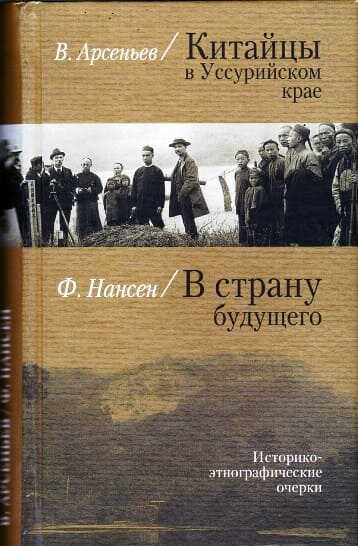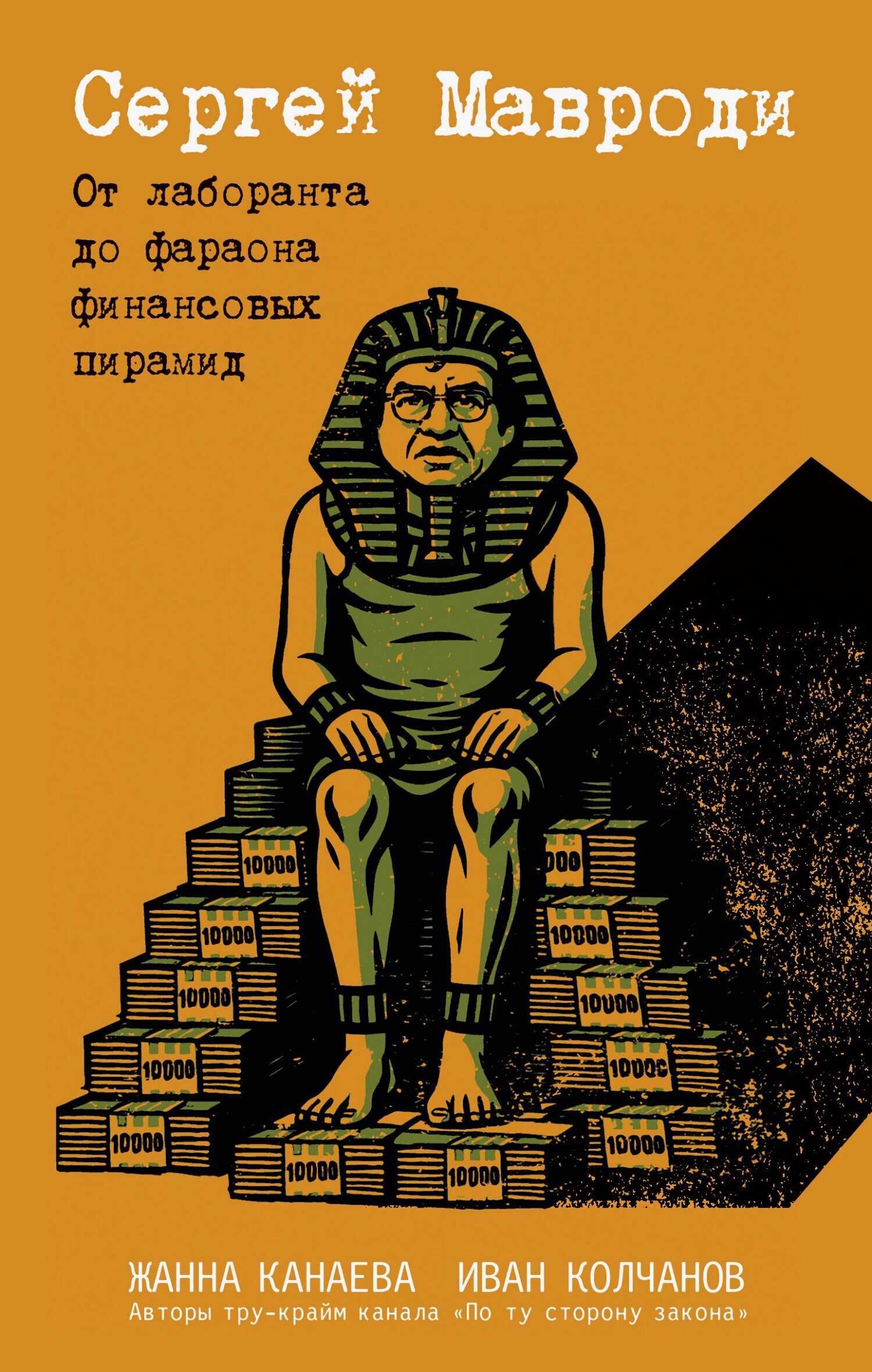кажется глупым затянувшееся прощанье.
Не к добру долгие проводы.
Потому что в ту самую минуту, когда молодая женщина с сыном за спиной двинулась наконец из ворот, — с улицы в них вошел вернувшийся раньше времени старый Михал Габджа! Оба — уходящая и возвращающийся — застыли на месте. Он — черный от гнева, она — белая от страха и стыда.
— Бежите?!
Михал опирается на посох. Горбится. Но голову поднял, смотрит на нее. Вид у него грозный. В глазах — ненависть.
А у Кристины лишь сердце колотится. Хочет она обойти свекра стороной, выбраться на улицу — и не в силах сдвинуться с места, переступает с ноги на ногу. И чувствует, что прикована она к этой земле, и нельзя ей скрыть лица от карающего взгляда старика. К счастью, ей вдруг становится очень жалко себя, и она заливается слезами. Это сбивает Габджу с толку. Он боком проходит мимо невестки. Прошел, не спуская глаз, сплюнул, буркнул под нос:
— Свинья!
Но что это? Старая Алоизия, увидев, как правнук ее, крошечный Марек, обернулся к ней, потянулся ручонками, осеняет его крестным знамением, высоко подняв костлявую руку. Именно в этот миг ее слух поразило мерзкое слово, вывалившееся из уст зятя, как коровий блин. Рукой, тяжелой от гнева, хлестнула она Габджу по губам — хлесь!
Михал Габджа одеревенел.
Кровь бросилась ему в лицо. Он задыхается, открывает рот… Сквозь красный туман видит и слышит, как хохочут зеленомисские зеваки, скрываясь в глубине своих крылечек… Схватился за голову Михал. Сердце, неистовое габджовское сердце с невероятно тонкими стенками заскакало бешеным галопом.
Бормоча что-то невнятно и тоскливо, медленно осел Михал Габджа наземь…
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОБРЫЕ ЛЮДИ!
К тому времени, как мы вступили в Волчиндол со своим весьма странным повествованием, в нем ютились уже тридцать три хатенки с подвалами. Предание гласит, что, когда сходились они сюда, сам Злой заметался на цепи, страшно завыл. Тогда разбежались хатенки кто куда. Попрятались по углам, по оврагам. Так и остались сидеть там, куда успели добежать, охваченные смертельным страхом. Побелели все, посинели с перепугу. С тех пор так и стоят они — белые, с красно-голубой каймой. Только шапочки у них разные: у одних из тучной зеленомисской соломы, у других черепичные, из сливницкой глины. Окружают их тонкие ветви яблонь и слив. Совсем бы их можно принять за грибы в траве, если б не жили в них люди!
Люди Волчиндола вечно роются в земле. Выкорчевывают, садят, обрезают, прививают. Руки их словно приросли к мотыгам да заступам, спины согнулись под тяжестью корзин с навозом И живут они жизнью труда, полной, тягучей и тяжкой, как густое сусло. Неведома им ни зеленомисская лень, ни сливницкая подлость. В урожайные годы пируют за столами, уставленными полными мисками и чарками. В худые годы клянут того, кто насылает морозы и град, филлоксеру и грибок. Тогда целыми днями хохочет Злой, белым мелом на черной трубе ведет счет душам волчиндольцев. Но спускается вечер — и скрежещет зубами Злой, с пеной на губах выплевывает их имена, потому что в каждом доме, перебирая четки, читают люди молитвы и после каждой шепчут!
— Спаси и сохрани нас, господи, от дьявольского искушения!
— Святые Урбан и Венделин, заступитесь за нас!
Из необозримой толпы божьих угодников выбрали себе волчиндольцы для поклонения только этих двух — самых полезных. Святой Урбан отгоняет морозы и град; Венделин следит, чтоб из Зеленой Мисы не прокрался к ним свиной мор. За верную службу поставили святым две маленькие часовенки под Бараньим Лбом. Урбану повыше, Венделину пониже…
Осень. Досуга хоть отбавляй. Есть время, чтобы прогуляться от Бараньего Лба через Волчьи Куты на Оленьи Склоны, выбраться из глубокой волчиндольской впадины на блатницкие и охухловские поля — поглядеть, каков из себя мир. Со дна впадины ведет вверх глинистая дорога, проложенная по крутому откосу. Два ряда кустов сирени обрамляют ее, отгораживая десять крутых рядков виноградника Адама Ребра от алчности широко разлегшихся владений Сильвестра Болебруха. По этой-то глинистой дороге, если обуть сапоги из свиной кожи, можно выбраться к нижней части Долгой Пустоши. И там, обойдя Болебрухово царство — дом с шестью окнами по фасаду и большие надворные постройки, — свернуть на обсаженную шиповником дорожку к каштанам.
Ах, эти каштаны! Выстроились, как солдаты! Отделяют Волчиндол от остального мира… К миру спиной повернулись. Доверчиво склоняются над винородной волчиндольской расселиной, охраняют ее, словно бдительные часовые. Позади них простерлось неоглядное полотнище охухловских и блатницких полей, голых, как стол, с которого убрали хлеб и нож. А на северо-западе — не видать ничего. Пустынное, бескрайнее, ровное — ничего!
На юго-западе, на голой равнине, за лугами и конопляниками, меж которых течет ленивая Паршивая речка, видны беспорядочно разбросанные зеленомисские дома, словно кто-то высыпал их на землю из мешка. И посреди этого деревенского беспорядка воткнут приходский костел, похожий на голубятню в имении барона Иозефи. Имение это гнойной болячкой киснет у подножья пологих холмов.
А на юго-востоке, почти у самого горизонта, громоздится что-то огромное. Над этим нагромождением высится дюжина костелов и дюжина фабричных труб. С костелов к небу возносится кадильный дым христианских молитв; трубы извергают чад: коптится над огнем низменная материя. Эта коптильня земного и небесного — окружной город Сливница. Там отпускают грехи и творят их. Грехи творят богатые сливничане; каются в них — толпы, стекающиеся из окрестных деревень.
Ах, совсем другое дело Волчиндол! Там нет начальства, кроме старосты. Никто не проникнет туда взглядом. Жизнь там проста, обнажена и остра, как нож. Все сложности попадают в Волчиндол из Сливницы — в обмен на красное вино Соседняя Зеленая Миса доставляет сюда на буйных жеребцах могучих невест и охотно принимает печальные похоронные процессии волчиндольцев…
Однажды в начале нашего века в полупустую хатенку, примостившуюся в самом глухом углу Волчьих Кутов, пришли новые люди: Урбан Габджа с женой Кристиной и мальчишечкой Мареком.
Дело было в ноябре, после святого Мартина; в эту пору уже подмораживает и выпадает снежная крупка. Из Зеленой Мисы ушли они со всеми своими пожитками, а их всего-то и было (если не считать надежд на лучшую жизнь): на тачке — припасы продовольствия да узлы с одеждой, с перинами, пестрая коровенка, да еще телега с разной утварью, прикрытой несколькими охапками сена и снопом соломы.
Лошадь и телегу считать, конечно, было нельзя, — их просто наняли, и не стоит вводить в заблуждение любопытных волчиндольцев. И так они, едва только переселенцы миновали Чертову Пасть, сбежались к дороге. Сначала просто смотрели — кого это, мол, принесло, а потом узнали Габджей, о которых частенько


![Красное вино Победы[сборник 2022] - Евгений Иванович Носов](/uploads/posts/books/346516/346516.jpg)