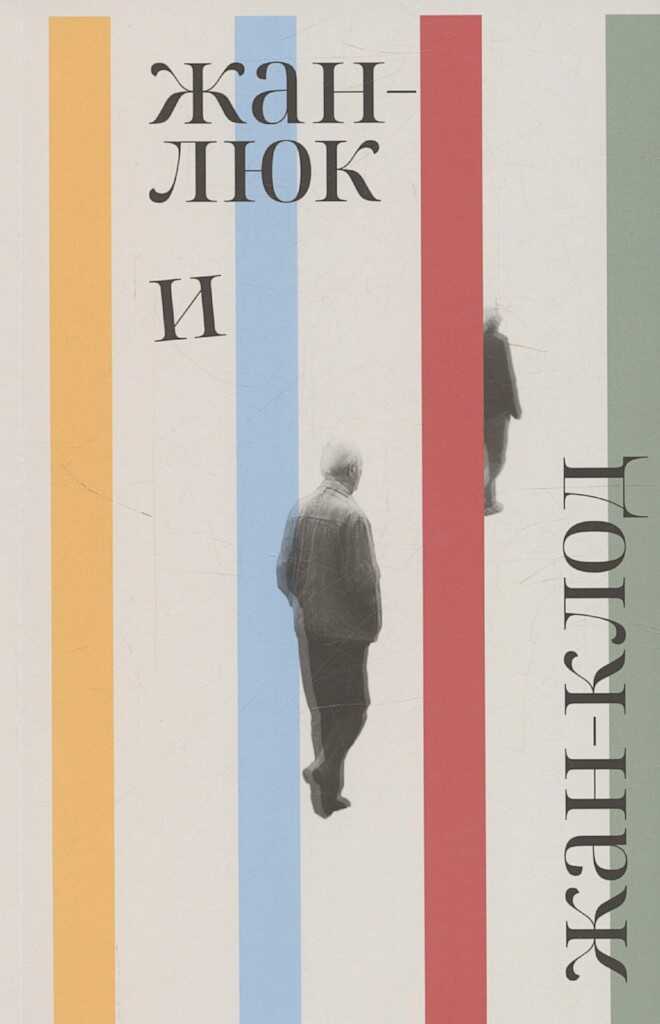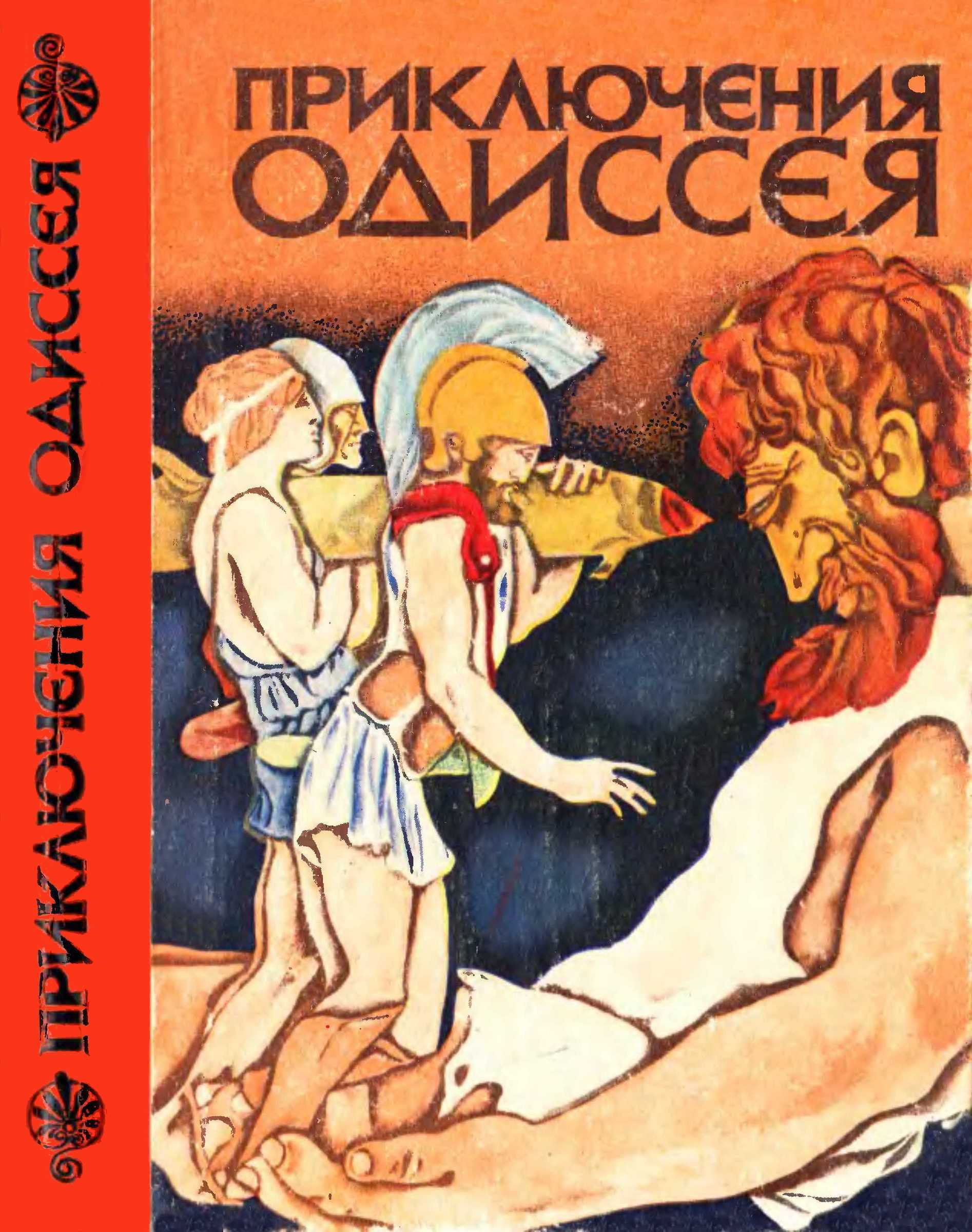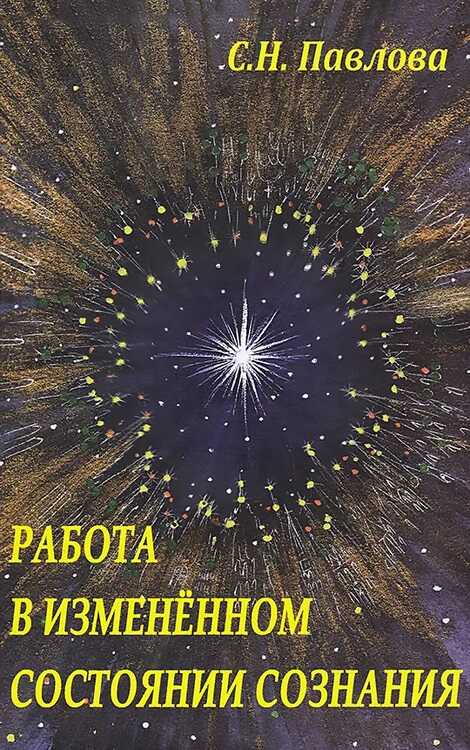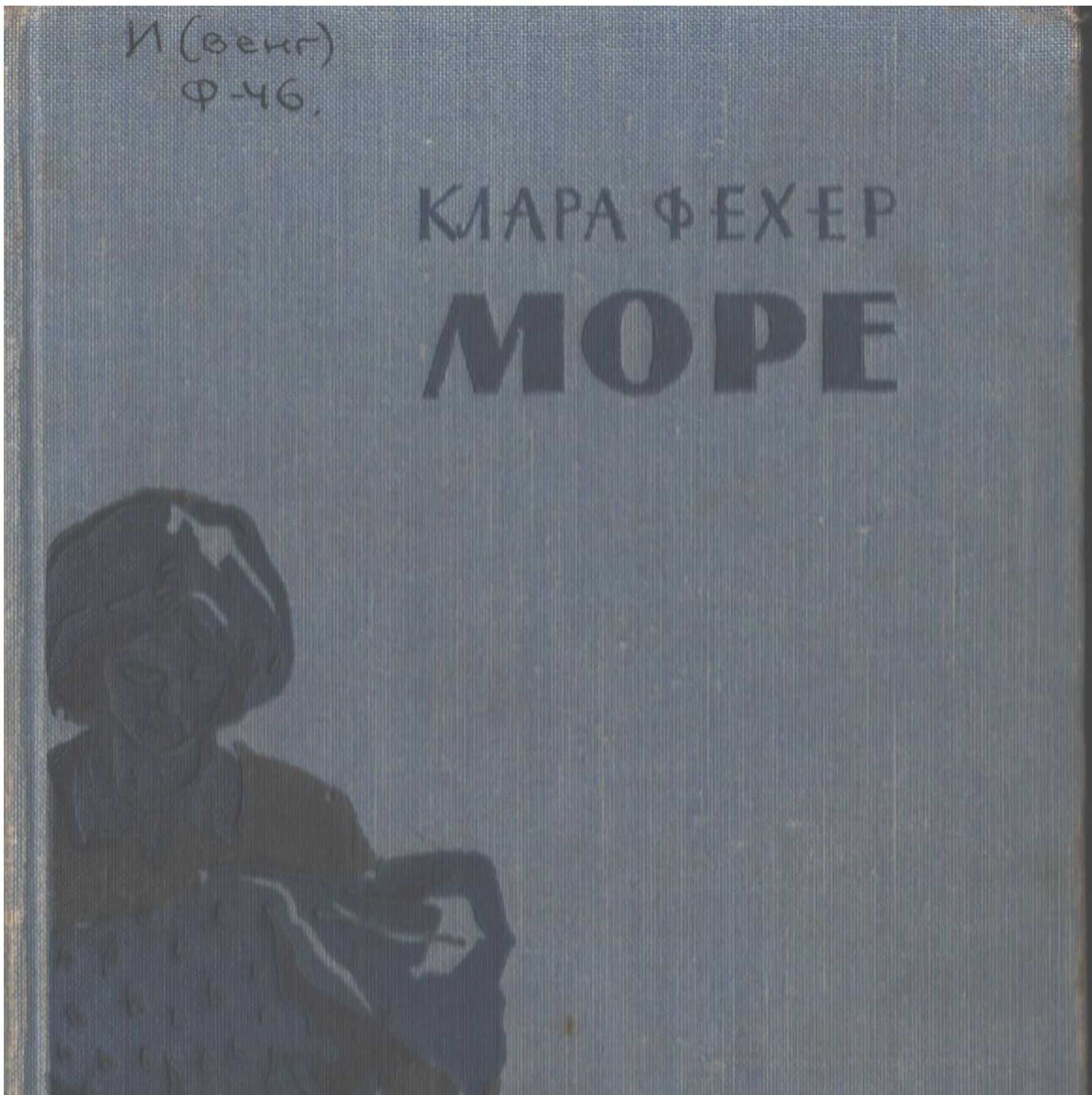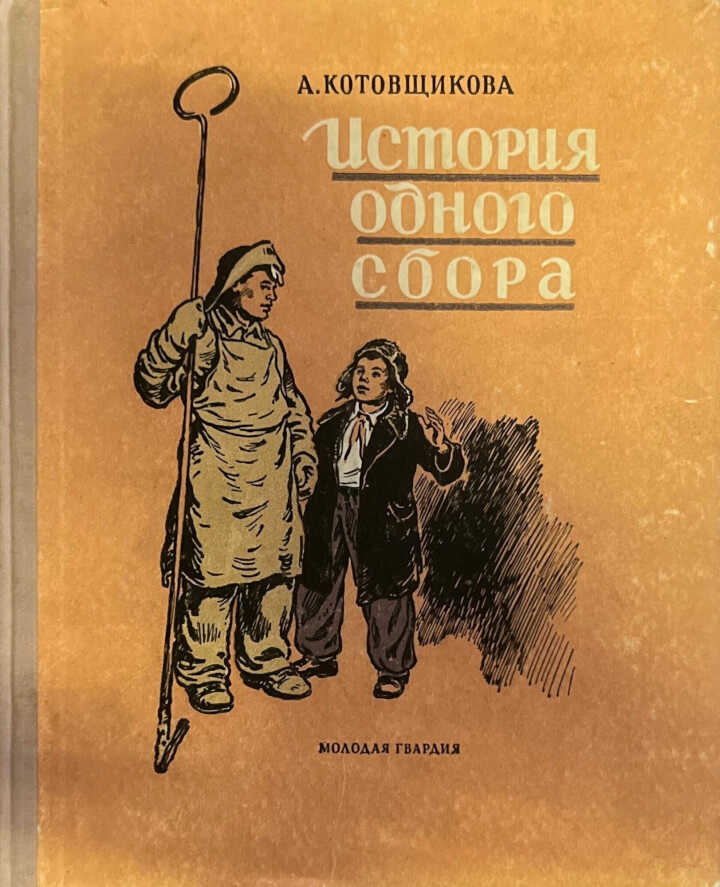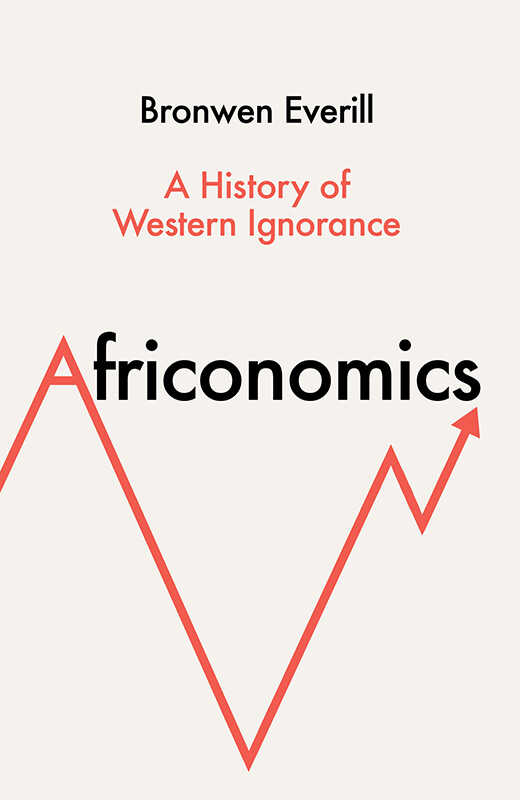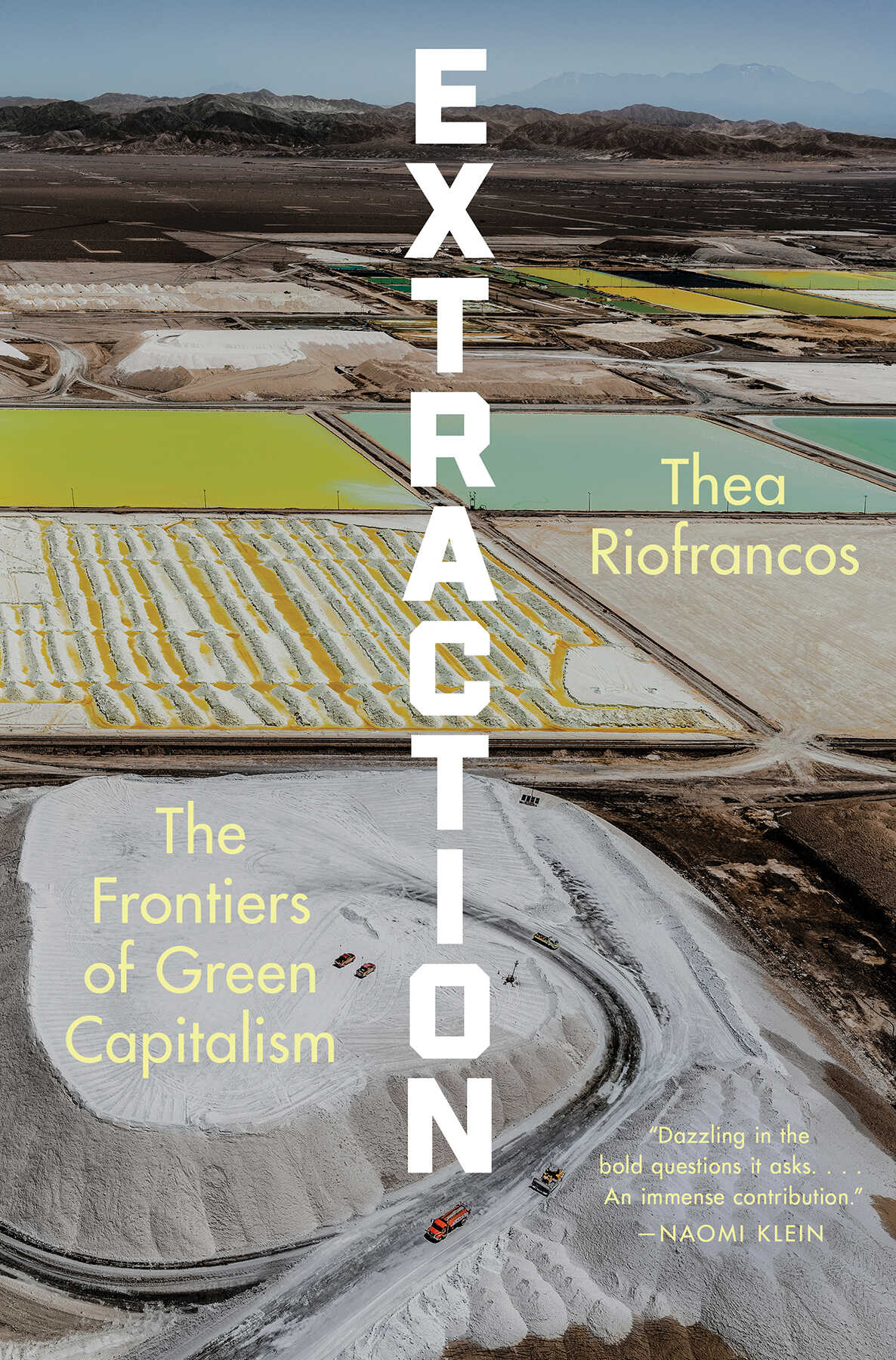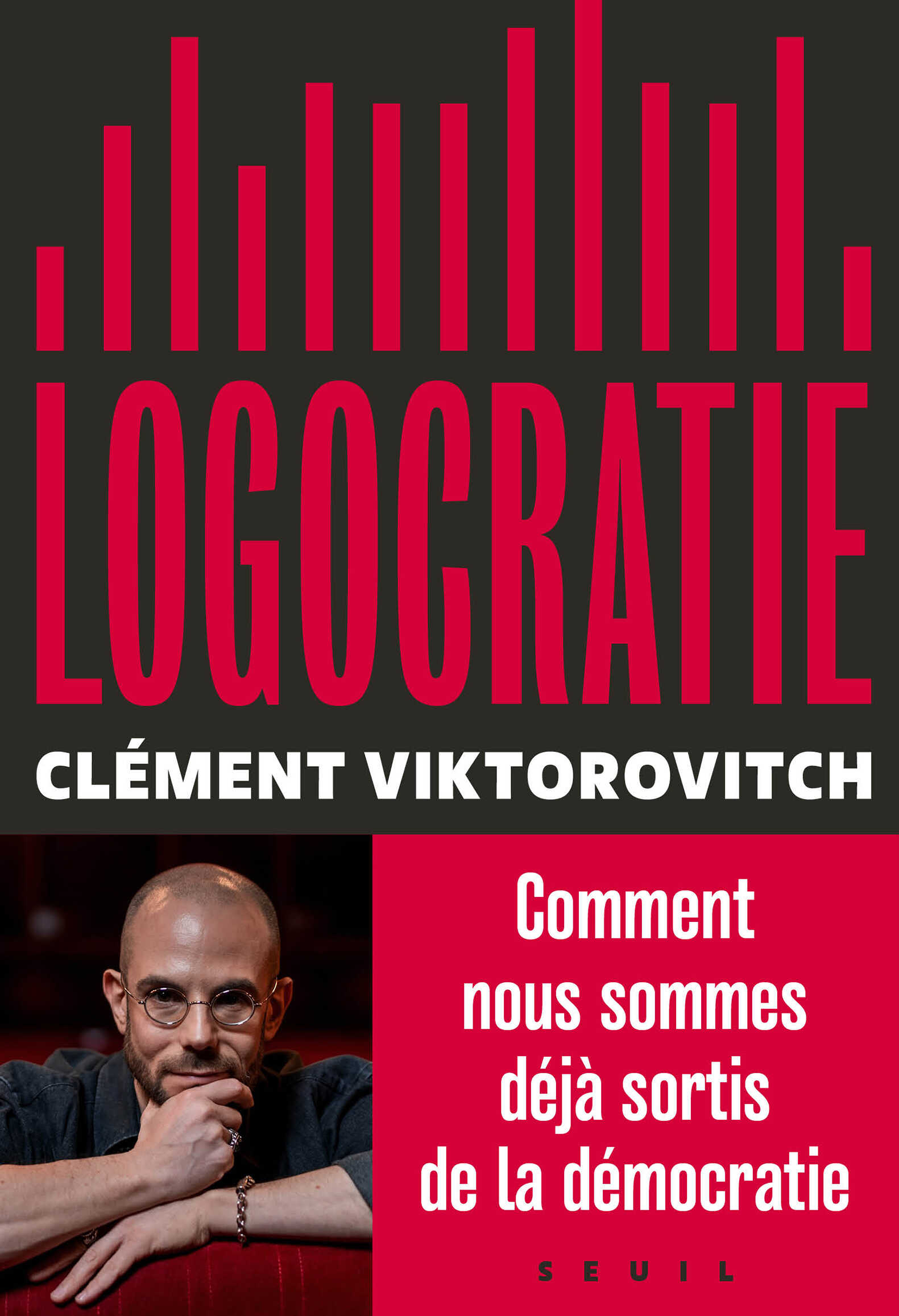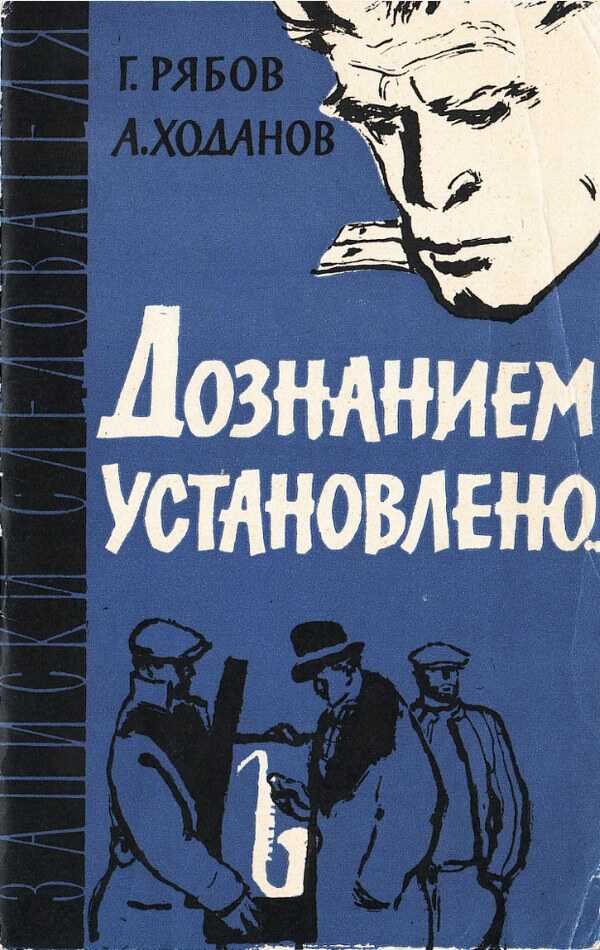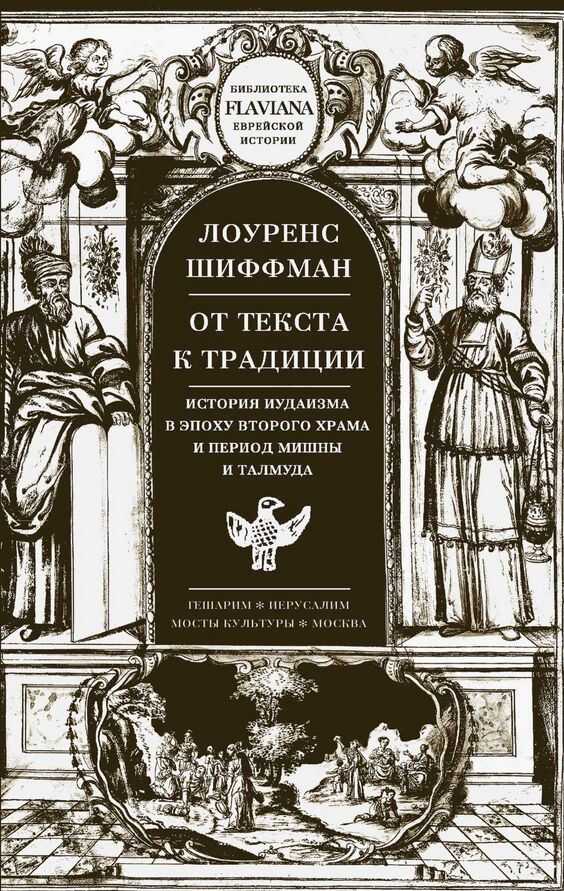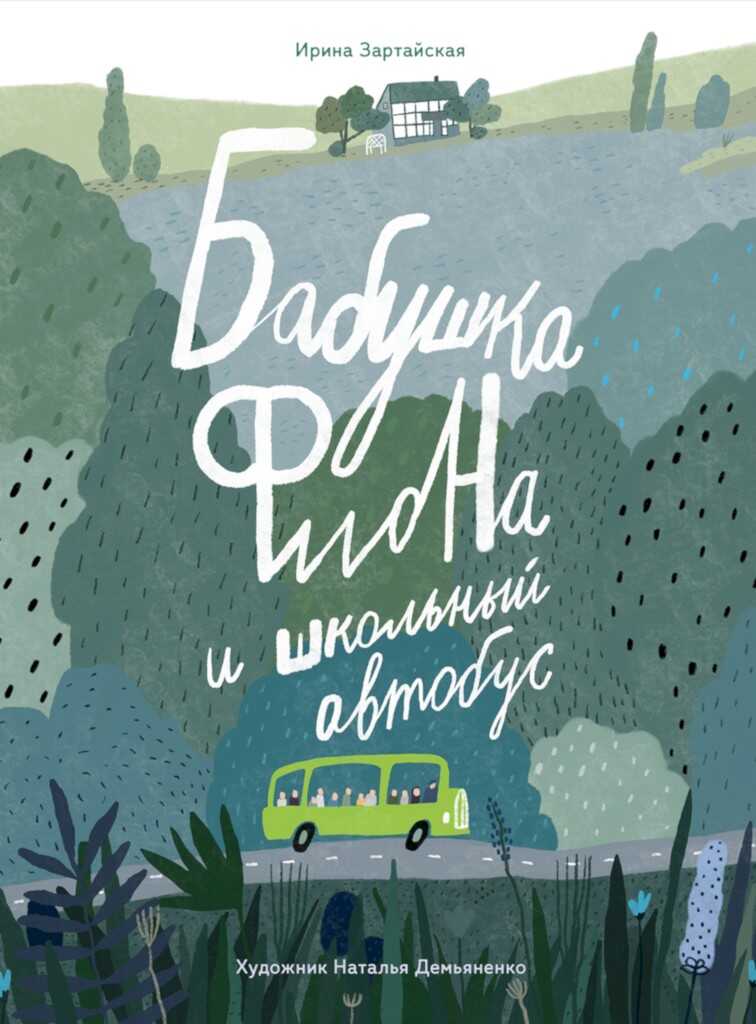и залог предлагал — он отверг… Я расследовал все обстоятельства этого печального дела. У меня есть свидетели, которые расскажут вам, кто получил в подарок вино и кто постарался сделать так, чтобы «Magyar Királyi Kisgazdaalap» не мог вовремя разрешить долгосрочную ссуду. Уважаемый судья, у меня на руках телеграмма от самого министра земледелия…
Адвокат стал рыться в бумагах, отыскивая сей важный документ. Но крестьянам и виноградарям, которые уже кое-как разобрались в деле и поняли, какая тут вершится несправедливость, не по нраву шуршание бумажек. Ропот прошел по толпе, люди подняли головы, вызывающе уставились на господ.
— Все это ложь, я требую начать торги!
Лучше бы представитель банка оставил эти слова при себе. Какой-то гоштачский верзила, хлебнувший ракии, неожиданно вытащил из отстойника массивный медный клин и с высоты пресса, где сидел, швырнул его в адвоката. Хорошо, что Сливницкий, подметивший движение гоштачанина, вскочил и поймал клин — уже в опасной близости от лысой головы юриста…
— Жандармы, исполняйте свои обязанности! — заверещал Панчуха.
Но диво дивное — в тот же миг щуплый, болезненный Мачинка нагнулся к Панчухе и ударил его по губам. Всегда бледный, чуть ли не прозрачный Мачинка теперь покраснел, как пион…
— Ах ты паршивая свинья! — выругался он, хватаясь за сердце.
Тут вахмистру удалось высвободить винтовку, он поднял ее кверху и выстрелил. Огонь в лампе вспыхнул и погас. Через окна, несмотря на тесные ряды сидящих на подоконнике, пробивался, правда слабый, дневной свет, — но все же стало темнее, чем было до того, как зажгли лампу. Народ понял: пришло его время. Поднялся шум, господа попрятались под стол. Апоштол двинул жандарма в живот, вырвал винтовку и снова наступил на ремень. Пора было вмешаться Сливницкому. Прежде всего он крикнул:
— Зажгите свет! И чтоб никто не двигался с места!
Большой Сильвестр встал, снова засветил лампу. Господа вылезли из-под своего укрытия. Народ, перебудораженный страхом и гневом, постепенно успокаивался. Уже кое-где зазвенел и смех. Смеялись над теми, кто вылезал из-под стела. Расступились: Кукия и Ребро выносили Мачинку, сердце которого оказалось слишком слабым для такой тесноты. Двери открылись, да так и остались открытыми, потому что в помещении стало душно и жарко — надышали.
— Уважаемый судья! — заговорил Сливницкий; он не спускал глаз с судьи, который сидел сморщившись, подперев лицо ладонями: такие лица бывают у пьяных, когда они приходят в себя; малодушие написано на этом лице. — Быть может, я не имею права вмешиваться в параграфы, именем которых вы явились сюда, чтобы согнать с земли наших самых усердных работников, — с той земли, которой они служат верой и правдой, не жалея сил. Да я и не хочу вмешиваться в ваши параграфы…
Слышалось только тяжелое дыхание, вырывающееся из самой глубины легких.
— Но вижу я, по вине кое-кого из Сливницы, из Зеленой Мисы, да и из Волчиндола параграфы эти перекрутили больше, чем нужно. Сейчас, здесь, я понял, что их и вовсе вывернули наизнанку. И тут я беру себе в помощь свою стариковскую совесть и предостерегаю всех, кто вывернул эти параграфы наизнанку. Все, что тут говорил защитник Урбана Габджи и Оливера Эйгледьефки, — хотя, как видно, слова его пропали даром, — это все правда. Наша правда, волчиндольская, — голодная и страшная… Я все знаю. Прошу уважаемого судью отсрочить торги. И стою на том, что торгов не будет вовсе, потому что на этой неделе господа кредиторы получат наличными деньгами все, что им задолжали наши люди.
— Требую начинать торги!
Речь Сливницкого не тронула адвоката банка. Панчуха с Болебрухом оживились. Старый греховодник с дубленой кожей полез в карман, где приготовлен его залог. Давно ему хочется прибрать к рукам Габджово добро. А Жадный Вол точит зубы на виноградник Оливера Эйгледьефки.
— Протестую! Требую отложить торги и назначить новый срок.
У адвоката ответчиков голос звучит устало. Сливницкий не удивляется тому, как осторожно он себя держит.
Народ молчит — молчит тяжко, как сама земля. Подайте ему сейчас знак — и он разнесет в щепы винодельню, сотрет в порошок господ законников…
— Так, — снова вступает Сливницкий. — Один представитель закона требует начать торги, другой протестует. Эти двое никогда не встретятся на одной дорожке — совесть у них не одинаково чиста. А мы все, кроме нескольких, знаем, чья совесть чище. Но я обращаюсь прямо к тому, кто тут представляет или должен представлять справедливость, обращаюсь к тому, кто явился к нам именем короля… Вот его-то я и прошу…
— Нечего просить, дед, торги состоятся, и точка! Кто хочет участвовать — вносите залог!
Судья морщится. Он уже хотел встать и покончить с этой неприятной историей, потому что успел протрезвиться. Но Сливницкий, взбешенный, повысил голос, чтоб перекрыть ропот, уже приближающийся к страшному взрыву, и гневно воскликнул:
— Хорошо, чудесно, замечательно! Но я заявляю, что не ручаюсь, сможете ли вы выйти отсюда живыми! Да если и выйдете — целыми не останетесь… Я все сказал!
Судья наклонился к адвокатам, тревожно и испуганно пошептался с ними. Встал. Проговорил что-то по-венгерски. Сливницкий тотчас перевел:
— Суд постановил, что продажа с торгов недвижимости Урбана Габджи и Оливера Эйгледьефки откладывается до пятнадцатого февраля 191. . . года, но состоится лишь в том случае, если до того дня должники не удовлетворят все претензии кредиторов.
Напряжение разрядилось. Люди повалили наружу, Апоштол снял ногу с ремня вахмистровой винтовки, Бабинский и Райчина отошли от второго жандарма. В толпе образовался проход — люди стояли шпалерами от дверей винодельни до часовни святого Урбана, где ждали коляски. Господа двинулись. Шли мимо молчаливых, но вызывающе смотревших мужиков, лузгавших тыквенные семечки.
Впереди шел судья, удрученный, с несчастным видом. За ним — адвокат Экономического банка, надменный и надутый. Адвокат противной стороны улыбался, пожимал кое-кому руки. Он остановился с Габджой и Эйгледьефкой, поговорил с ними о чем-то. Они проводили его до коляски, и он на прощанье похлопал их по плечу.
Следом брел зеленомисский нотариус — скользкий человек, не то волк, не то лиса; за ним пыхтел Жадный Вол, грузный, как винная бочка. Сзади его оплевывали шелухой… За Болебрухом и Панчухой вплотную шагали жандармы, как будто гнали их перед собой.
— Арестуйте их! — выкрикивали в толпе.
Но люди со штыками молчали. Молчали, хоть и были до горла налиты гневом. Только гнев жандармов испарится через неделю, а вот злоба волчиндольских тузов все будет бродить, вздуваться от унижения, будет расти до тех пор, пока не разорвет, не уничтожит жалких носителей этого страшного порока.
Господа уехали; затих стук колес по замерзшей дороге. Сливницкий со старостой и Апоштолом расхаживали между рядами односельчан, как три волхва. Они улыбались мужикам, мужики —


![Красное вино Победы[сборник 2022] - Евгений Иванович Носов](/uploads/posts/books/346516/346516.jpg)