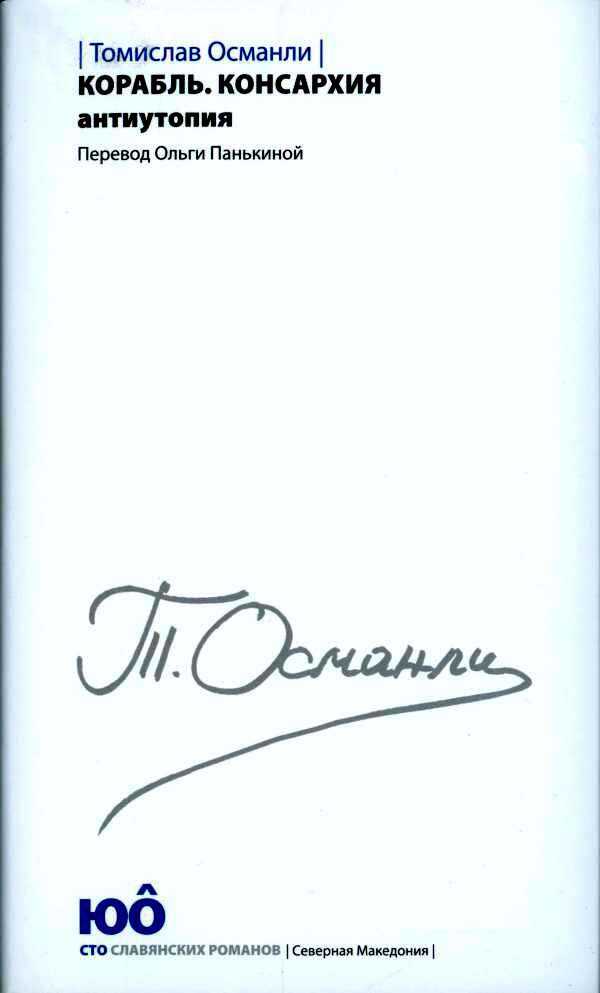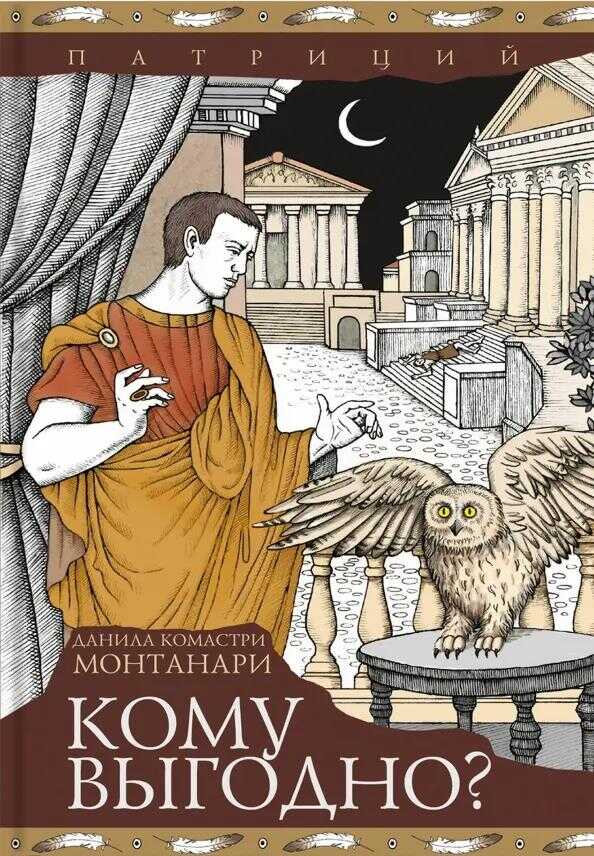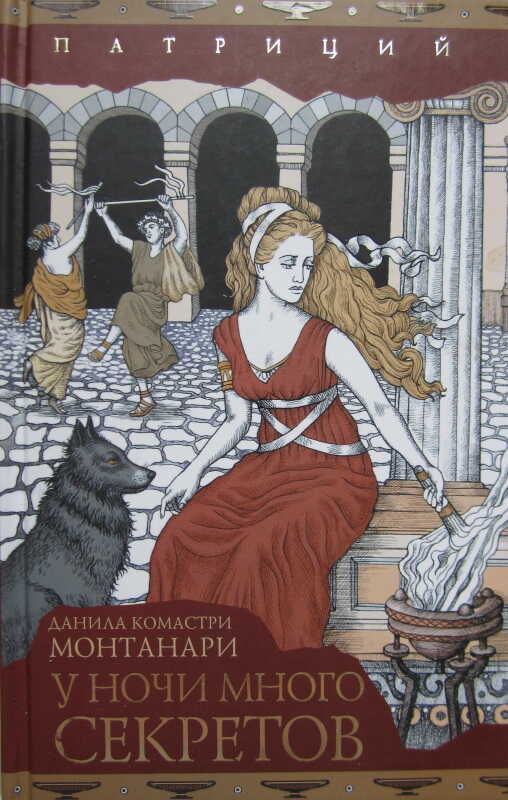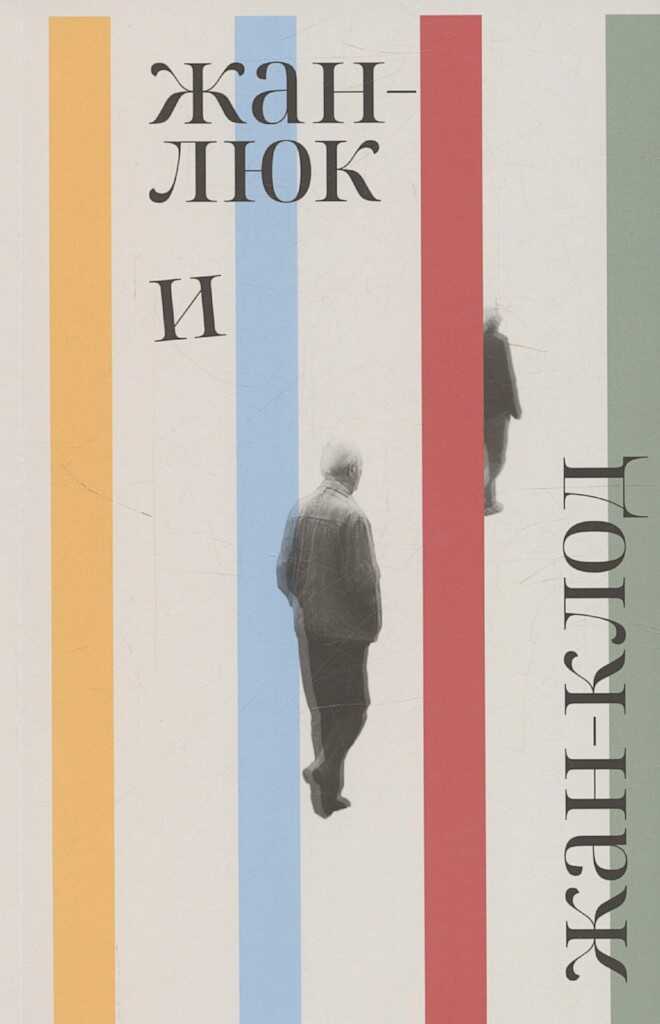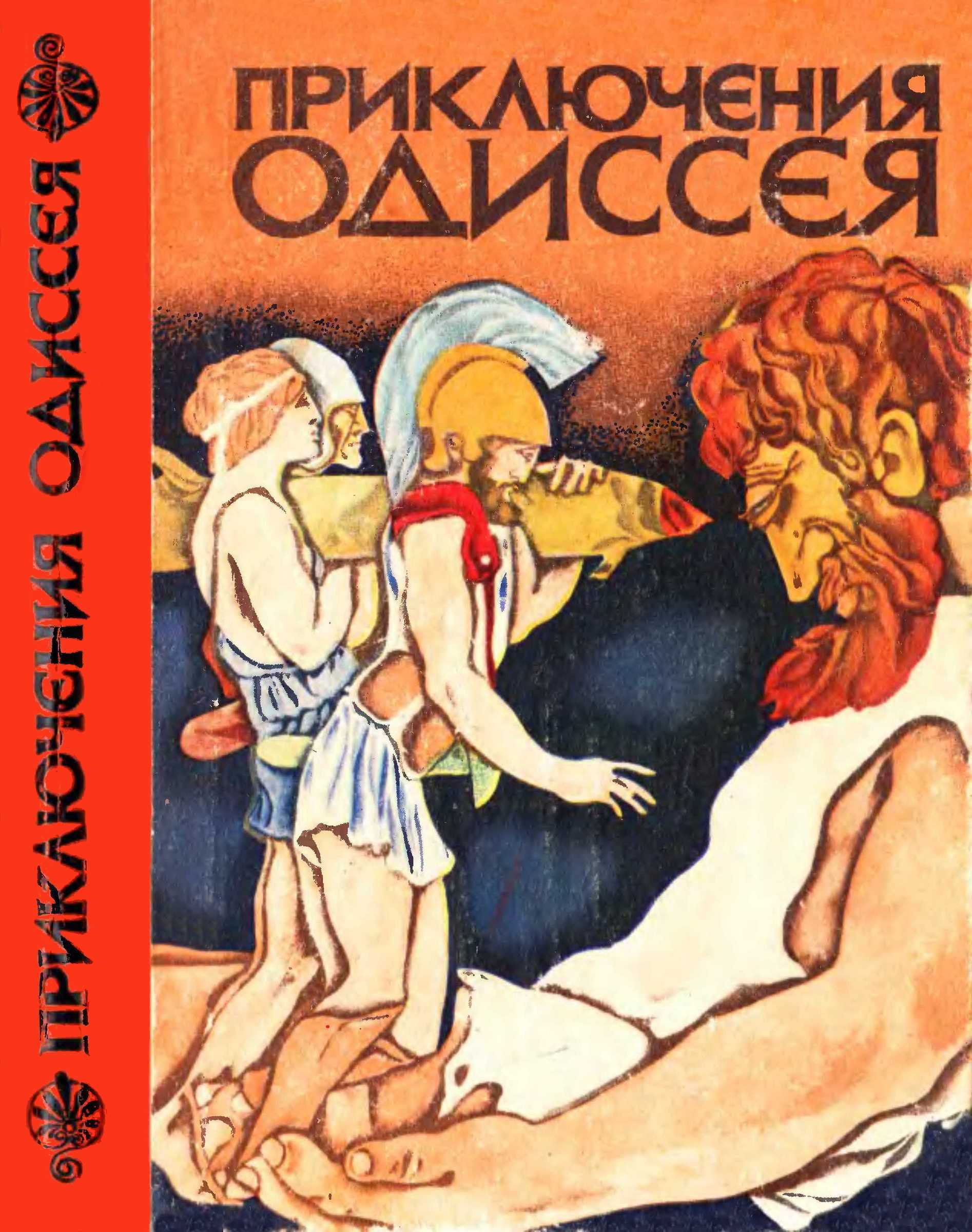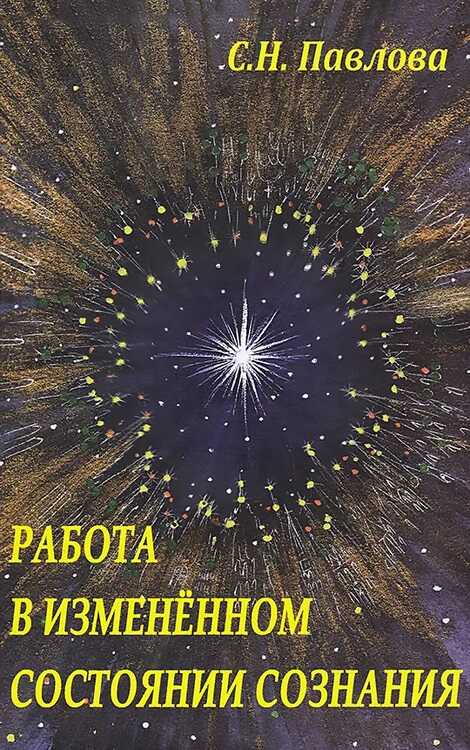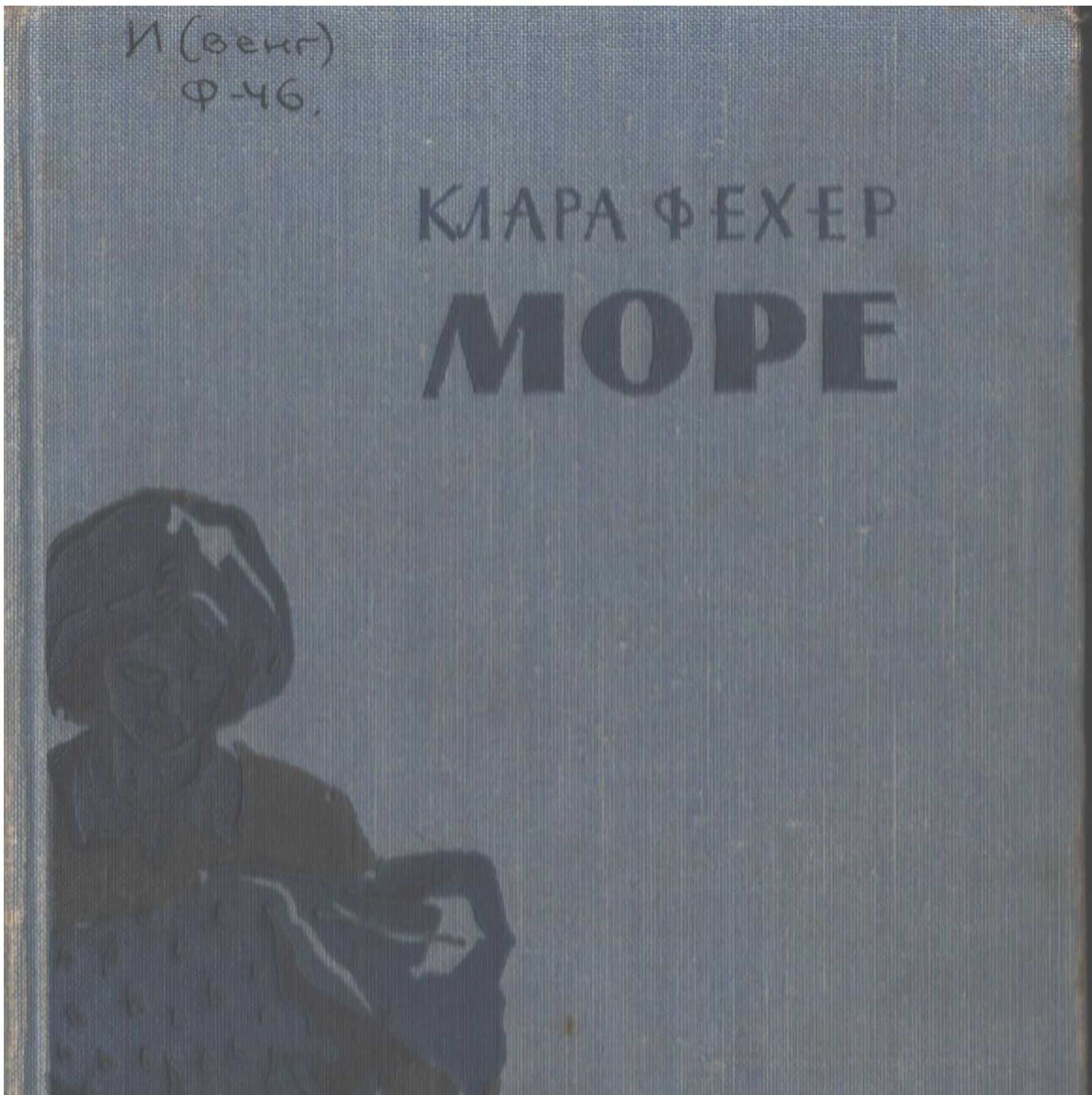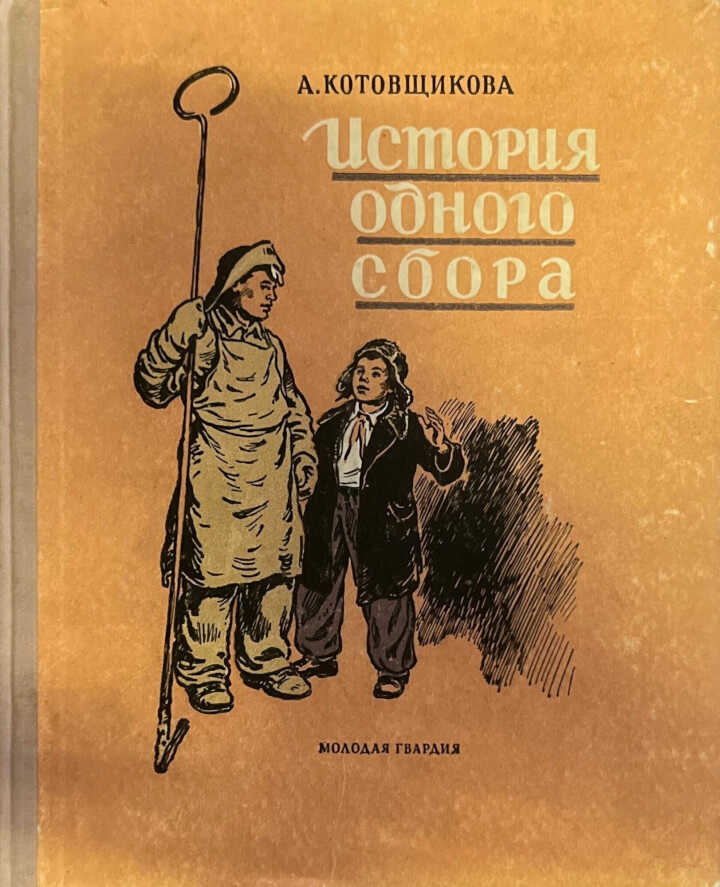затрещит, и, сплюнув, пробормочет ругательство. Такое, какого заслуживает пьяница и негодяй Иноцент Громпутна:
— Гадденсанобабич![36]
И сплюнет еще раз. Но этого ему покажется мало, и он американским своим башмаком разотрет оба плевка на кирпичном полу. Это для того, чтобы плевки не напоминали ему волчиндольского отца и мужа, который, хоть и зарабатывает порядочно, все просаживает с шлюхами в детройтских кабаках!..
От таких мыслей хочется кому-нибудь дать в морду. Но для этого вовсе нет нужды ездить в Детройт, такого добра и в Волчиндоле хватает — достаточно заглянуть к Оливеру Эйгледьефке или к Сильвестру Болебруху. Первый лупит жену, когда напьется, — лупит, правда, не сильно, она-то выдержала бы больше; второй бьет жену в трезвом виде, — потому что, когда он пьян, она его не боится. А все из-за чего? Один — косвенно, второй — непосредственно из-за Урбана Габджи. Этот лакомка не пожелал уступить Кристину Сильвестру и вообще не интересовался намерениями последнего. Тем самым он натолкнул Сильвестра на мысль отбить невесту у Оливера. И вот за пристрастие Урбана к сладкому расплачивается теперь Филомена синяками на теле, а у Эвы на лице остается щиплющий след пощечины. В обоих случаях предлоги очень далеки от причин: мужчины, которые никак не могут забыть свою давнюю любовь, до ужаса лживы. Длинный язык Филомены — вот повод для колотушек за неверность Эвы. А мученический вид Эвы, кислый, как простокваша, — зацепка для Сильвестра, который отвешивает жене оплеухи за грех красивой Кристины, — за то, что та в бытность свою служанкой в зеленомисском приходе клюнула на приманку Урбана Габджи.
Все это, конечно, больные вопросы, и в будущем они еще наделают немало бед, но пока что они скрытно бродят в сердцах обманутых волчиндольцев — Большого и Рябого; взрыва пока не происходит — хотя бы потому, что часть своей злобы и тот и другой изливают на своих жен. Трагедия обоих заключается в том, что они не любят тех, кто их любит, и тоскуют по тем, которых когда-то любили да потеряли. Причем потеряли так, что все осталось на глазах: достаточно Оливеру взглянуть вверх, на Оленьи Склоны, а Сильвестру — вниз, на Волчьи Куты, — и оба уже ищут, к чему бы придраться: там — чтоб стукнуть жену кулаком, здесь — чтоб съездить ей по уху.
Но все это пустяки против того, на что оказались способны сыновья Сливницкого! Анча не заболела воспалением легких — таких девушек, крепких и сильных, как ствол акации, не берет никакая хворь. Но сколько ни молилась Анча, все равно еще весной ее стало поташнивать, а потом и до рвоты дошло. Старой Сливницкой стало ясно, что дочь ее не одна. Большая любовь всегда героична — редко удается сломить ее побоями, уговорами же — никогда; она великодушна в величайшей беде, и потому нет на свете таких клещей, которые вырвали бы у Анчи признание: кто же, кто этот последний из подлецов? Если б не беспечность самого Восайнора — тот, обычно осторожный, как заяц, напился однажды в Болебруховом подвале, да и брякнул одно только слово, а уж остальные семьдесят семь вытянули из него развеселившиеся Болебрух с Панчухой, — вероятно, Анча до могилы не произнесла бы самого главного: имени будущего отца. Она призналась, но лишь тогда, когда увидела, что все равно все знают. Но и тут она не раскрыла рта, только печально кивнула головой.
Сплетням, что распустил Панчуха, Волчиндол не верит — он-то знает, что к чему. Знает, что Панчуха рад был бы гору на Сливницкого обрушить, была бы какая по соседству. И все же, когда на Волчиндол спустились сумерки, Томаш Сливницкий подошел к учительской квартире в школе при святом Урбане. Страх охватил старика — такой страх, какого он в жизни не испытывал. В окошке горит огонь, обитатель комнаты лежит на диване, посвистывает, покуривает. Стоит Сливницкий, через прозрачную занавеску разглядывает зятя своего… Долго стоял он, пока решился постучать. Учитель открыл окно, высунулся, но как только разобрал, чье строгое лицо глядит на него из темноты, молниеносно захлопнул створки окна, погасил свет. Черная тьма смотрела из окна на старика. Такая же черная, как совесть Восайнора, и — как правда Сливницкого. Обе они черные — совесть одного и правда другого. Поднял старый Томаш руку к лицу, потер лоб, лысую голову, застонал. Лег спать — и не уснул, и только к утру, чтоб и левая рука знала, что известно правой, безбожно прервал молитву проснувшейся жены, — а она с некоторых пор очень грустно выговаривала слова: «Моли за нас, грешных…»
— Не молись за грешных, Барбора, потому что нельзя им прощать: это — Леопольд Восайнор!
Разговор происходил в задней горнице, в пятницу. В субботу оба сына старого Томаша — Франчиш и Палуш — дружно точили в чулане ножи; такие ножи, раскрывшись, уже не закрываются. В воскресенье, когда волчиндольцы и зеленомищане потоком хлынули из костела, Леопольд Восайнор мелкими шажками торопился по левой стороне улицы к корчме Жадного Вола. Братья Анчи с дружеским видом остановили его, стали по бокам, не вынимая правых рук из карманов.
— А скажи-ка, пан кобель, возьмешь ты нашу сестру в жены или не возьмешь?
У Восайнора душа ушла в пятки. Дернул головой, обвел блуждающим взглядом Сливницких — а они ребята могучие, как дубы… Крылья бы сейчас Восайнору! Но братья держат его. Восайнор чуть не вскрикнул от радости, когда увидел, что к ним приближается Жадный Вол Он вновь обрел присутствие духа — и злобу. Как смели на него нападать!
— Никогда я на ней не женюсь, хамы, так и знайте!
«Хамы» одновременно ударили его ножами — в плечо и в лицо… Восайнор упал, вопя о помощи, а они подлеца — в спину, так что ножи уперлись в лопаточные кости. Сбежались люди. Кричал Жадный Вол. А ножи, что не закрываются, однажды раскрывшись, все мелькали над извивающимся телом, вонзаясь в толстый зад со звуком лопающейся ткани. Больше всего провинилась нижняя часть Восайнорова тела — ей и расплачиваться. Сливницких оттащили от их жертвы уже тогда, когда ничего нельзя было поправить. Одежда пропиталась кровью, кровь натекла на землю, смешалась с пылью. Душераздирающие вопли учителя, слабея, перешли в неясный хрип. Все это произошло мгновенно. Раненого завернули в холстину, положили в фургон Жадного Вола и умчали в Сливницу.
Подошла милостивая осень, согнувшаяся под тяжестью урожая, и все в Волчиндоле повеселело, — кроме дома Сливницкого, где рядом с бродящим молодым вином отстаивалась печаль. Такая она неизбывная и неотвязная, эта печаль, что долго не может смягчиться, хотя дел у старого Томаша выше горла: кооператив заработал полным ходом, потому что, по примеру сливницких корчмарей,


![Красное вино Победы[сборник 2022] - Евгений Иванович Носов](/uploads/posts/books/346516/346516.jpg)