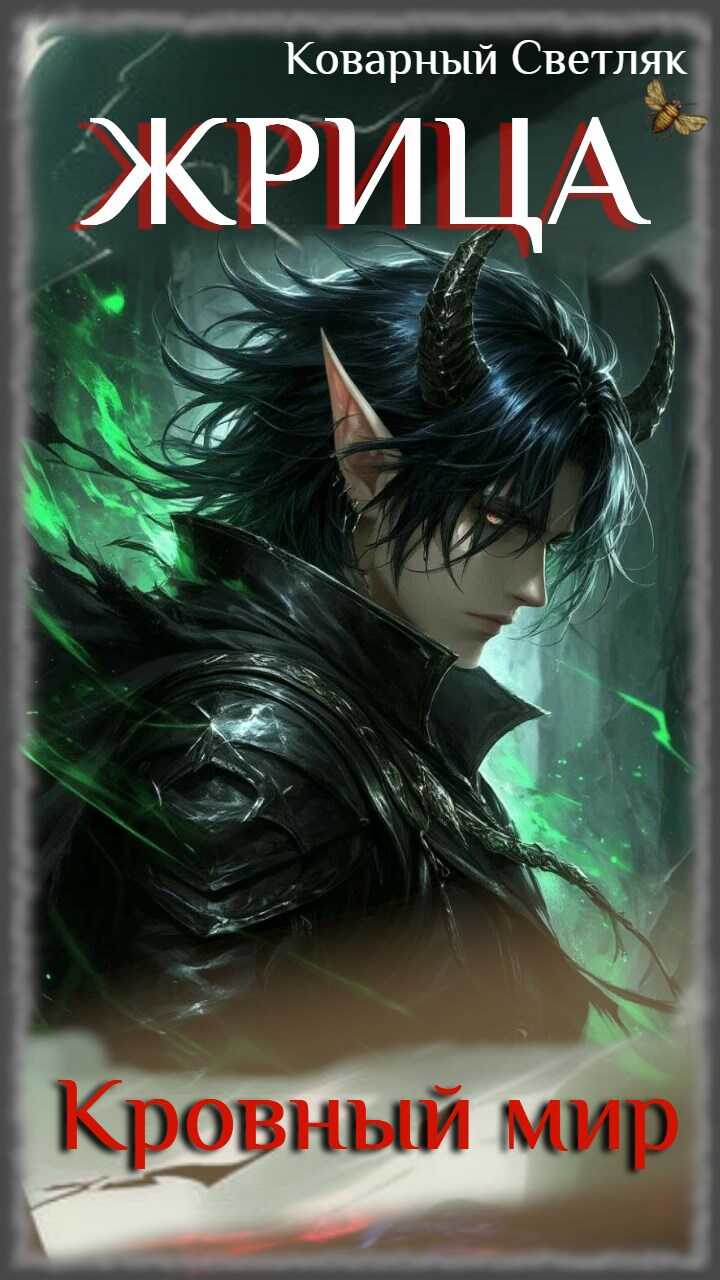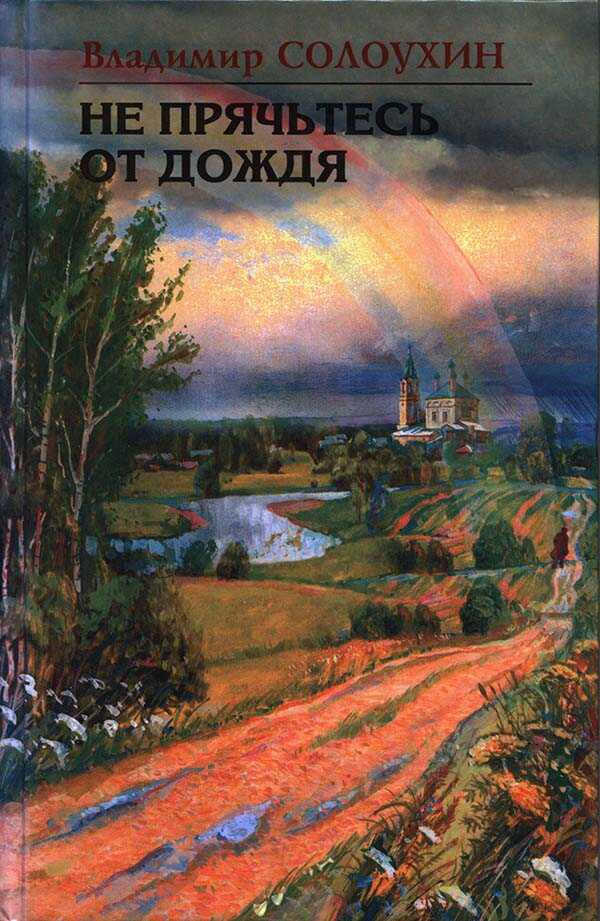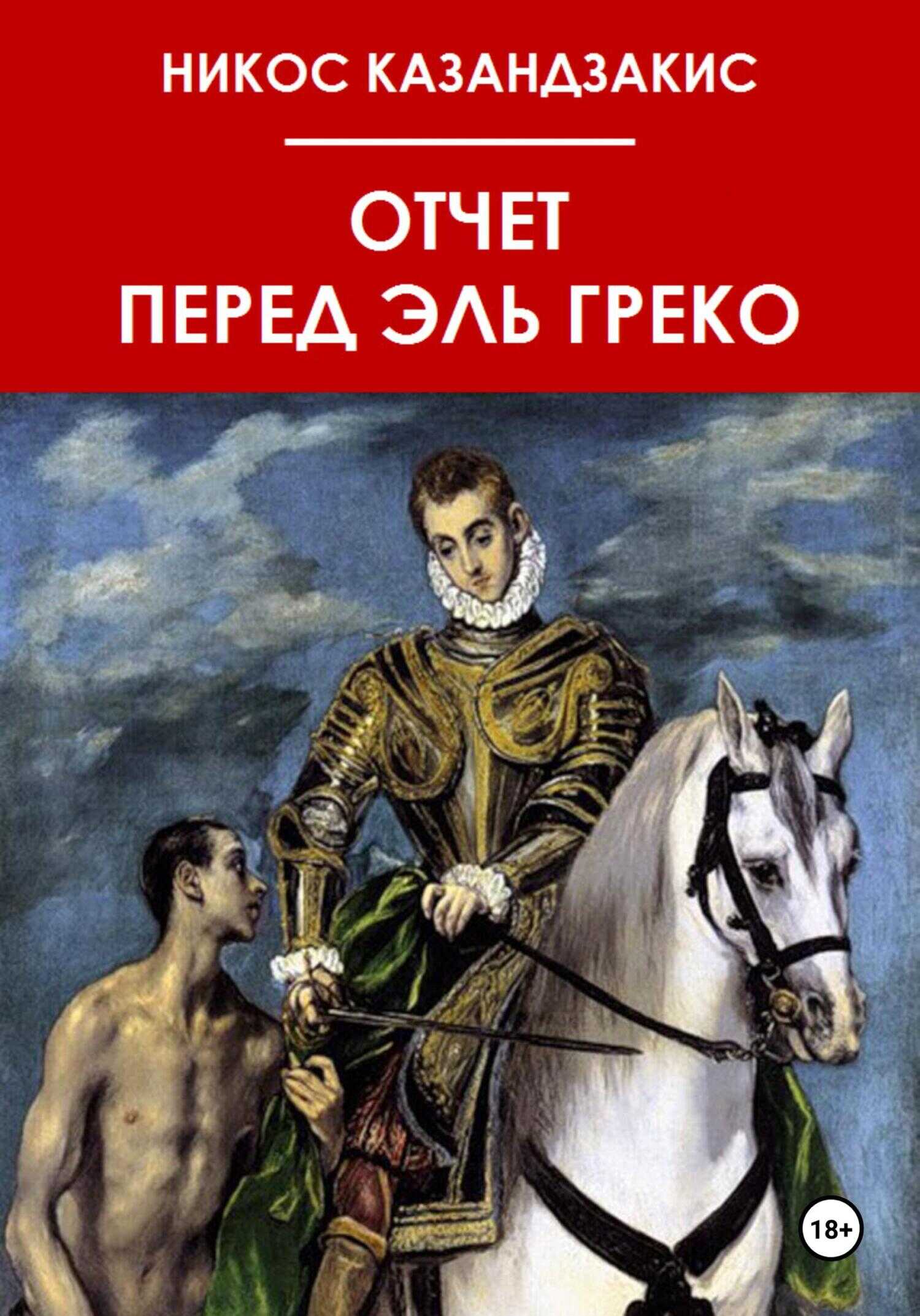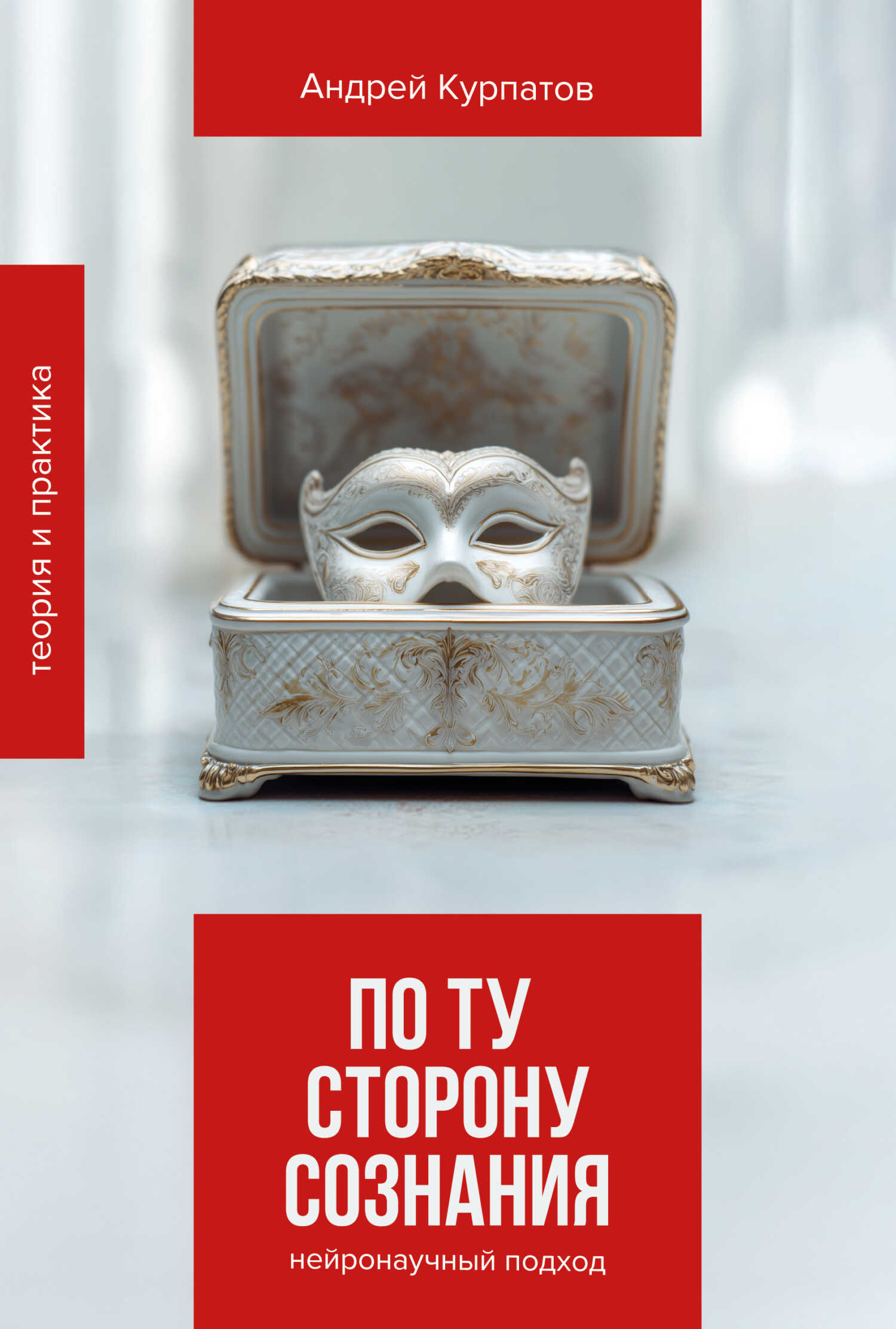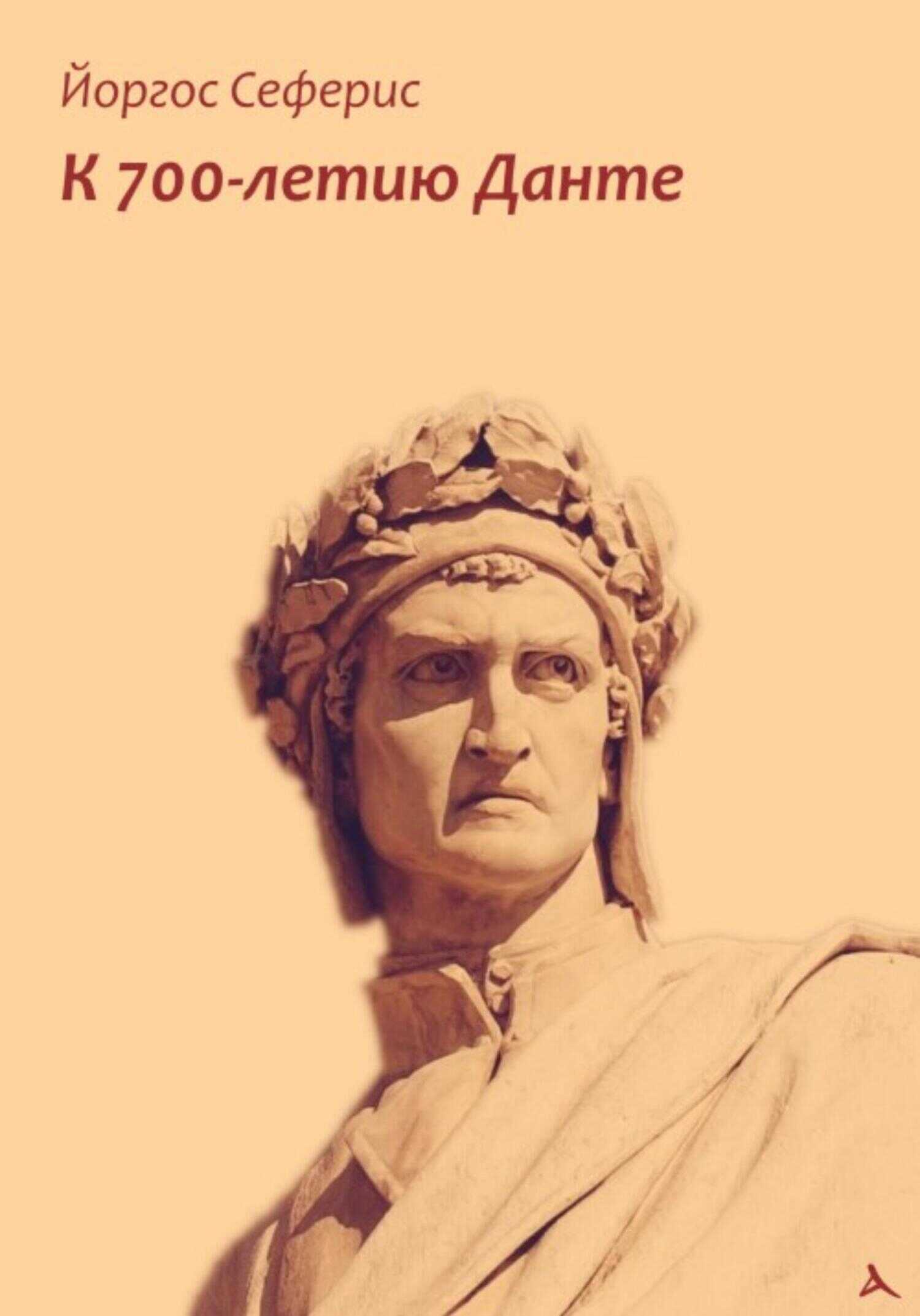с этим человеком, не могу быть больше во власти его! Выпал мой жребий!.. Еще вчера днем я специально дала Котику съесть три мандариновые дольки. К ночи у нее проявились красные пятна на щеках и на ручках. А значит, мамаша моя и сестрица уж с утра будут здесь! Вечером, в шесть часов я буду ждать тебя у магазина колониальных товаров. Там в витрине по вечерам зажигают керосиновые лампы, чтоб не мерзли стекла. Я увижу тебя через стекло и выйду к тебе. Там в витрине поставлены стаканчики с серной кислотой, чтоб не мерзли стекла…»
Поднял глаза.
Зачеркнуто…
Читает дальше.
«Не его упреки, не хмурое его молчание тяжелы для меня. Нет, не это… А вот как обрезаны ногти у него на руках – вот что невозможно, от чего хочется кричать и можно, кажется, ударить!.. Когда силы покидают меня и мне негде взять душевного подкрепления, я тайком пробираюсь к вешалке, где на столике брошены по обыкновению его перчатки. Стоит прижать эти его перчатки к лицу и вдохнуть его запах… У меня темнеет в глазах, я становлюсь диким животным, а вокруг меня бамбуковый лес и мне нужно лишь одного – крови, крови!.. Уедем, уедем отсюда! Ничего с собою не бери, лишь паспорт и деньги! Все у нас с тобой будет, поверь мне, будет с избытком, потому что быть с тобой – это счастье! Я жду тебя ровно в шесть. Возьми лошадей».
Молчание.
НЮТА сокрушенно качает головой.
АЛЕША не смог усидеть на месте, вскочил и пробежался туда-сюда по комнате. Но тихо, на цыпочках, не нарушая наступившей тишины. Упал в кресло. Попрыгал в нем.
Ну-с!.. Что ты нынче пишешь? А?
ИВАН ПАВЛОВИЧ (не открывая глаз). Да так.
АЛЕША. Все для «Русского инвалида»?
ИВАН ПАВЛОВИЧ. Ага.
АЛЕША. Дрянь-газетенка.
ИВАН ПАВЛОВИЧ. Путевые записки. Дорожный дневник, знаешь. Печатают.
АЛЕША. Дрянь, дрянь, пустяки! Без всякого направления газетенка. Там одни замшелые сидят.
ИВАН ПАВЛОВИЧ (он все еще не открыл глаз). Да я только так. Обычно – по вопросам. «К вопросу о…», «Еще раз о…». Вот путевые записки теперь, мелочь. Печатают.
САШЕНЬКА. А ты бы рассказ написал! Из жизни. Или повесть. Повесть – хорошо, роман – долго, а повесть – хорошо! Или, знаешь, – нувеллу!
Хлопает в ладоши и звонко хохочет.
Да, да, нувеллу с сюжетом! Я так люблю, когда – нувеллы! Когда с сюжетом!..
Дядя открыл глаза.
ИВАН ПАВЛОВИЧ. А который теперь…
Не договорил «час». Не успел.
В башенке часов ожила жестяная картинка: Ева протянула Адаму яблоко, и прочее… Ничего нового в том, как судорожно дергаются кусочки поржавевшей жести, нет. Никто и не глядел на них.
Часы бьют шесть раз.
Все, как дурачки, шепотом сосчитали все шесть ударов. Зная, что их будет именно шесть, не пять, не семь…
Молчание.
(В отчаянье.) Зачем вы врете?! Зачем?.. Дурацкая детская страсть вранья! (Хватается за голову.) Зачем, зачем?!
АЛЕША (вскакивая). Что мы врем? Что?!
САШЕНЬКА. Мы? Врем?!
ИВАН ПАВЛОВИЧ. Это болезнь: врать и врать и врать! Здесь лечение нужно применить! Когда крадут и крадут – это клептомания. А когда врут и врут – это, это… – я не знаю что!
АЛЕША. Скажи, скажи, что было соврано, скажи!
САШЕНЬКА. Нечего сказать! Нечего? Нечего?!
ИВАН ПАВЛОВИЧ. «Пил ли ты, Алеша, молоко?» – «Нет, не пив!» Вместо буквы «лэ» – буква «ве»! «Не пивв!..» А у кого тогда морда в молоке? У кого верхняя губа с белой каемочкой?!. «Ела ли ты, Сашенька, пастилу?» – «Не ева!» Опять проклятая буква «ве»! А у кого тогда пальцы слиплись, щеки липкие – противно даже взять такого ребенка на руки?!
АЛЕША (у него дрожит голос). А если я сейчас спрошу в ответ? А?.. Кто называл детей – обжорами?!
САШЕНЬКА (кричит). Меня называл! Мясницкой улицей!..
НЮТА. Детей не надо оговаривать, когда они хорошо кушают. Если ребенку сказать – «толстый, румяный», – его можно сглазить. Нехорошо это.
ИВАН ПАВЛОВИЧ (взвившись). Да черта мне с ними – пускай кушают! Им никто против этого слова ни разу не сказал, чего бы они себе ни жрали! Врать-то, врать-то зачем?!
Алеша вскочил.
АЛЕША. Так!.. Минуточку! Мину-точку! Я прошу тебя сейчас же сказать, как честного человека, – что было соврано?
Пауза. Дядя вдруг как-то обмяк. С недоумением посмотрел вокруг.
(Звенящим голосом.) Ну-с!.. Я жду. Повторяю свой вопрос. Так-с! Что – было – соврано?!
ИВАН ПАВЛОВИЧ (бормочет). Господи Боже мой… зачем все это, зачем? Про Лизочку зачем? Что не хочет она за тебя замуж, что все сорвалось, что деньги, мол… Что невесте сорок шесть… Старухи какие-то, с любовью за деньги, но без свечек… зачем? Что Лиза в реке утопилась?! (Рассмеялся.) Нет, ты скажи мне, глядя мне в лицо, скажи – я глуп, чтоб Лизочка в реке утопилась? Я же не так глуп, чтоб – в речке! Зачем, зачем вы врете?..
Молчание.
НЮТА. Попрекать детей едою – самое последнее дело.
Молчание.
АЛЕША (искренне). Вру. Я вру. Не знаю зачем. Зачем – не знаю.
И закрыл лицо руками. Сел. САШЕНЬКА смеется.
НЮТА. Теперь бы самое время покушать. Может, даже и поужинать? Четверть седьмого…
Ей не отвечают.
АЛЕША так и сидит – закрыв лицо руками, чуть покачиваясь.
ИВАН ПАВЛОВИЧ (Алеше). Милый мой, хороший… Лизочка тебя любит, хочет замуж. А ты все тянешь. Вот проиграешь свои сто рублей в карты, выпьешь с Дулевичем свои пятнадцать бутылок шампанского… Нагуляешься и – под венец!.. Пойдут дети: ветрянки, краснухи, крапивницы, потницы, почесухи и пузырчатки – Боже милостивый!.. У жены – грудница, картавость, имение в Смоленской губернии, где мужики без спросу рубят лес… У тестя – виолончель. Вечером простоквашу с черным хлебом, на ночь – Майна Рида… Белые туфли с дырочками, мягкая шляпа на затылке, велосипед и удочки. Мальчика лечить от заикания, девочкам покупать ноты, самому выучиться на мандолине, жене – цветочные луковицы, себе – средство для ращения волос… И ради Бога! – никаких нувелл с сюжетом!.. Ничего этого не нужно!
АЛЕША. Прости. Мне все это как-то весело показалось: взять да наврать.
САШЕНЬКА. Весело же было, весело! – про старух с четвертого этажа в пролет! И про свечки весело.
АЛЕША. Я подумал, нужна какая-нибудь историйка, чтоб дядю развеселить. Вот и…
ИВАН ПАВЛОВИЧ (с силой). Я ненавижу историйки! Я ненавижу повести с сюжетом! Нувеллы, романы…
Молчат.
НЮТА. Видно, пора самовар ставить.
Молчат.
САШЕНЬКА. Ой, а я люблю! «Бедная Лиза»!.. «Всадник без головы»! «Грани жизни», «Тернистый путь», «Ценою чести» Сеславина, «Шепоты жизни» Брешко-Брешковского!.. В «Робинзон Крузо»! Сколько он, бедный, пережил, не зная, что все так хорошо кончится а конце!
ИВАН ПАВЛОВИЧ вдруг всхлипнул.
ИВАН ПАВЛОВИЧ. Бедный, бедный Робинзон!..
Пауза.
АЛЕША. Да ты не на шутку, дядя, расклеился. Совсем занемог. Приляг.
Дядя укладывается на диване.
(Помогая ему лечь.) Я, знаешь, люблю, когда – сюжетец! Ей-богу, иногда – ничего.
Дядя достает из кармана большой клетчатый платок и громко, обиженно сморкается.
ИВАН ПАВЛОВИЧ. Ненавижу, ненавижу все это… «В тени высокой липы, на берегу Москвы-реки, в один из самых жарких дней тыща восемьсот пятьдесят… черт-те какого года лежали на траве два молодых человека. Один на вид…» Глупость какая! Глупая глупость, мне нечего больше добавить.
Сморкается. Вздыхает.
«Что, Петр, не видать еще? – спрашивал 20-го мая тыща восемьсот дурацкого года, выходя без шапки на низкое крылечко постоялого двора, барин лет сорока с небольшим в запыленном пальто… и без клетчатых панталон…»
САШЕНЬКА (серьезно). Что же это он – без панталон? Так и написано? Ты, видно, напутал.
ИВАН ПАВЛОВИЧ. Какая разница?
САШЕНЬКА. Если ты, дядя, не понимаешь…
ИВАН ПАВЛОВИЧ (прерывая ее). Не понимаю! Да-с!.. Не понимаю!.. Для пущей важности еще и год указывают – когда произошло! Да никогда, никогда этого не было