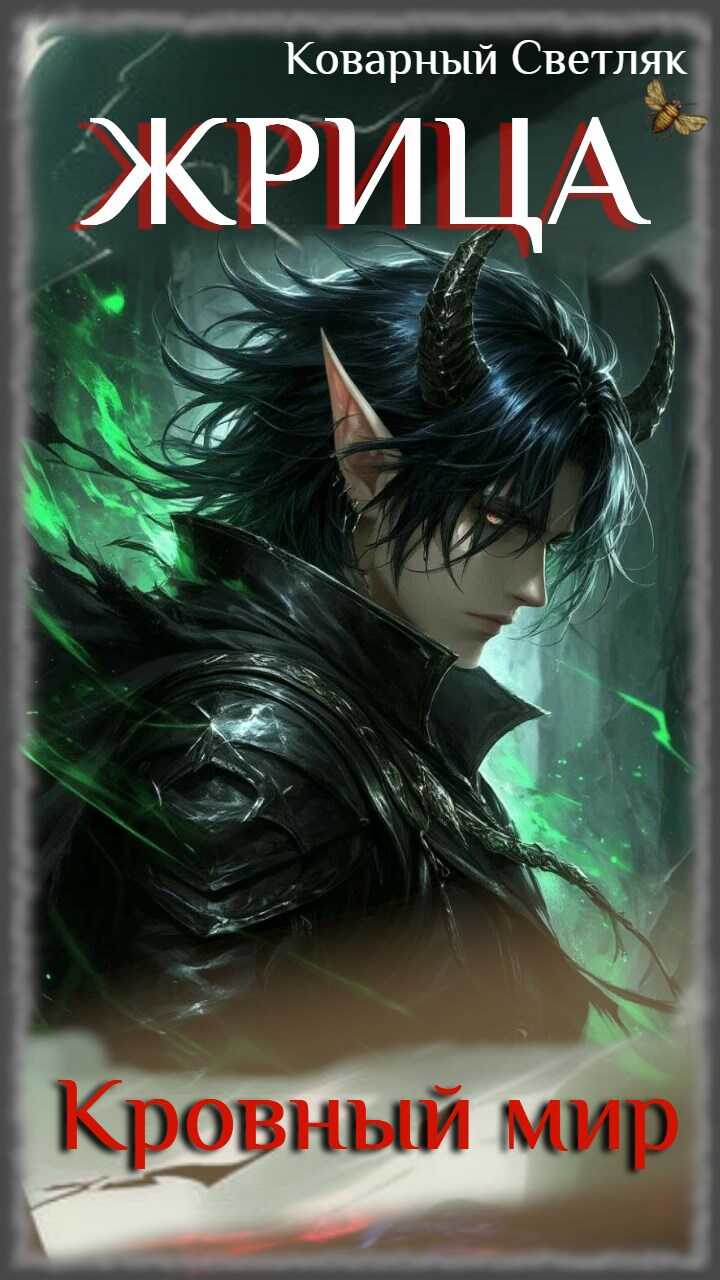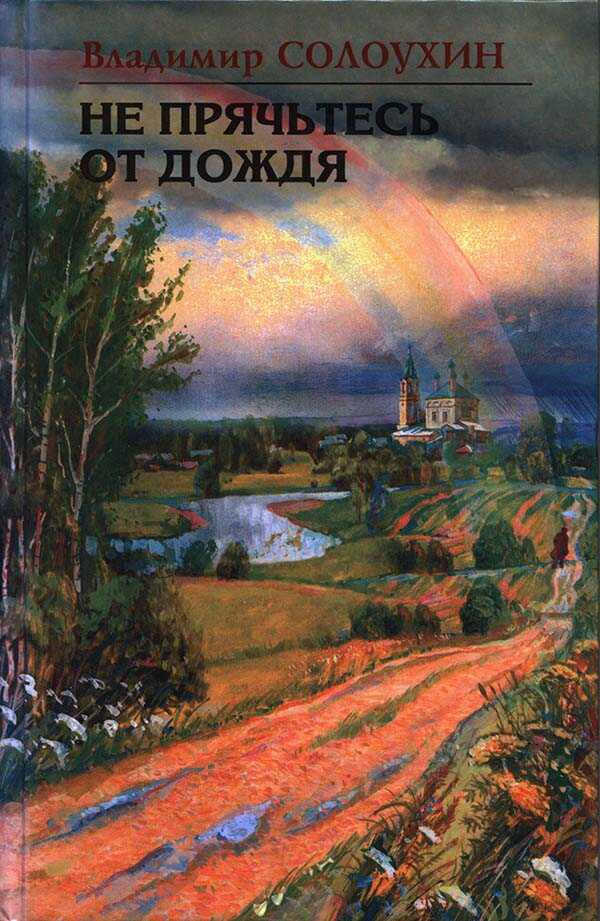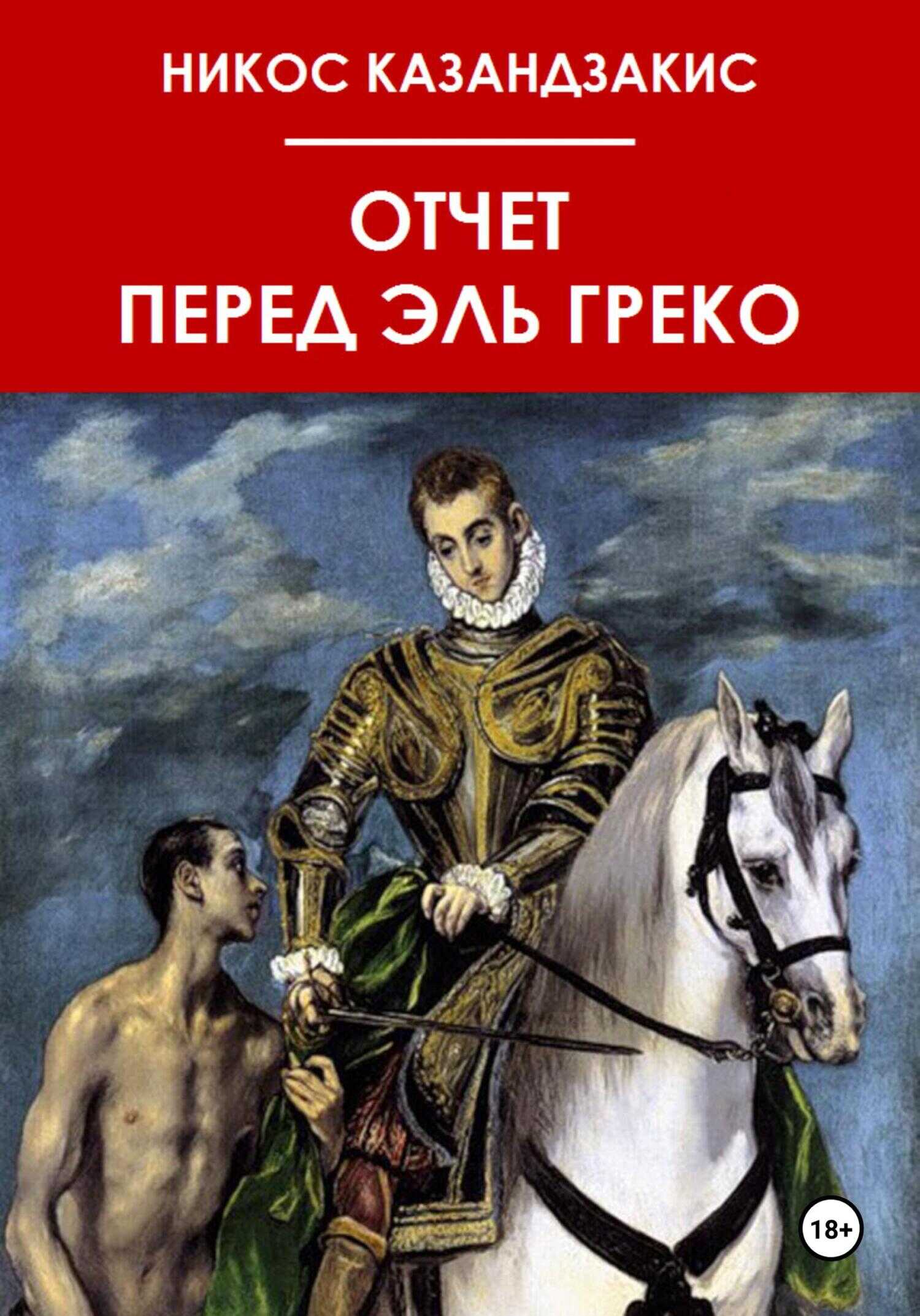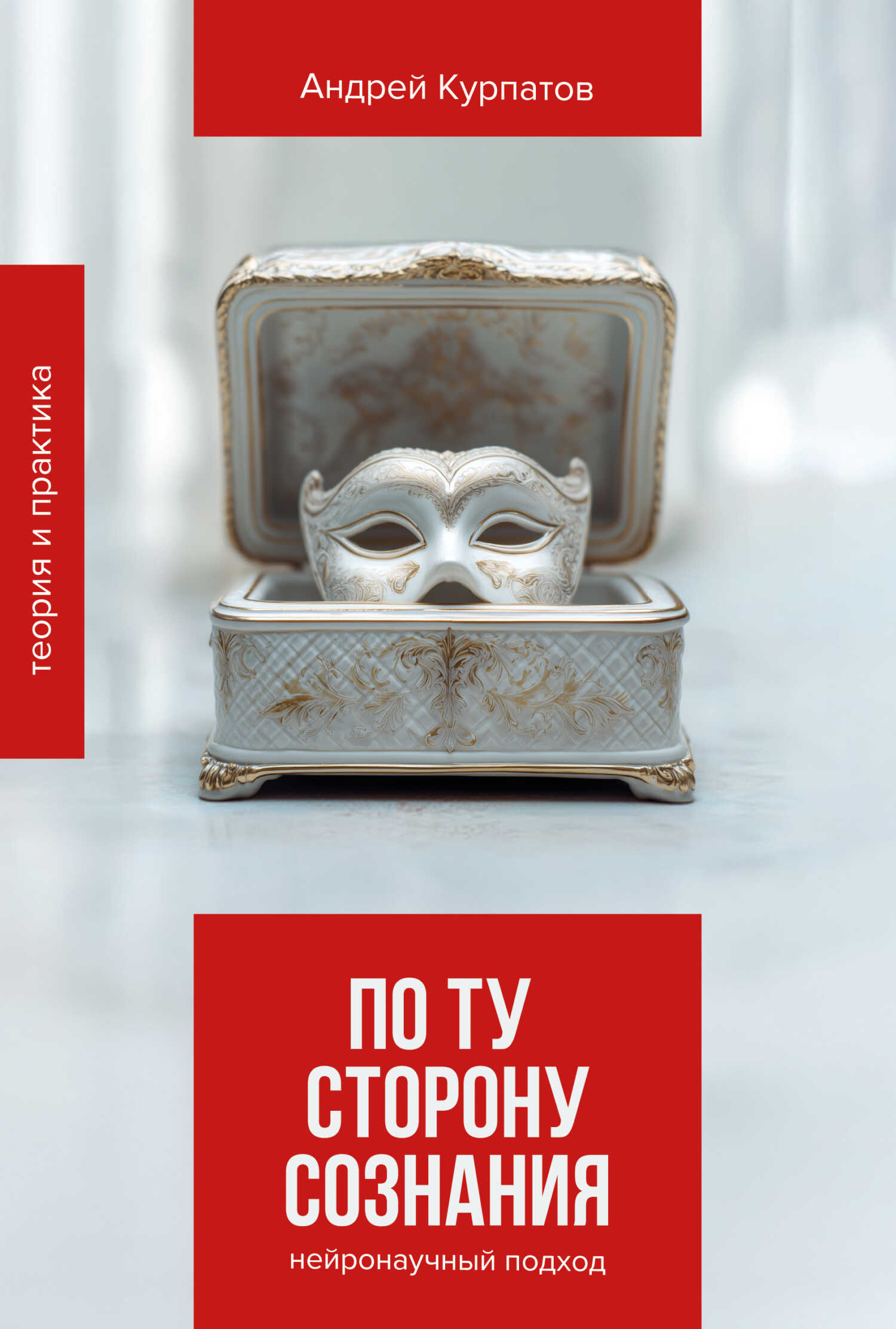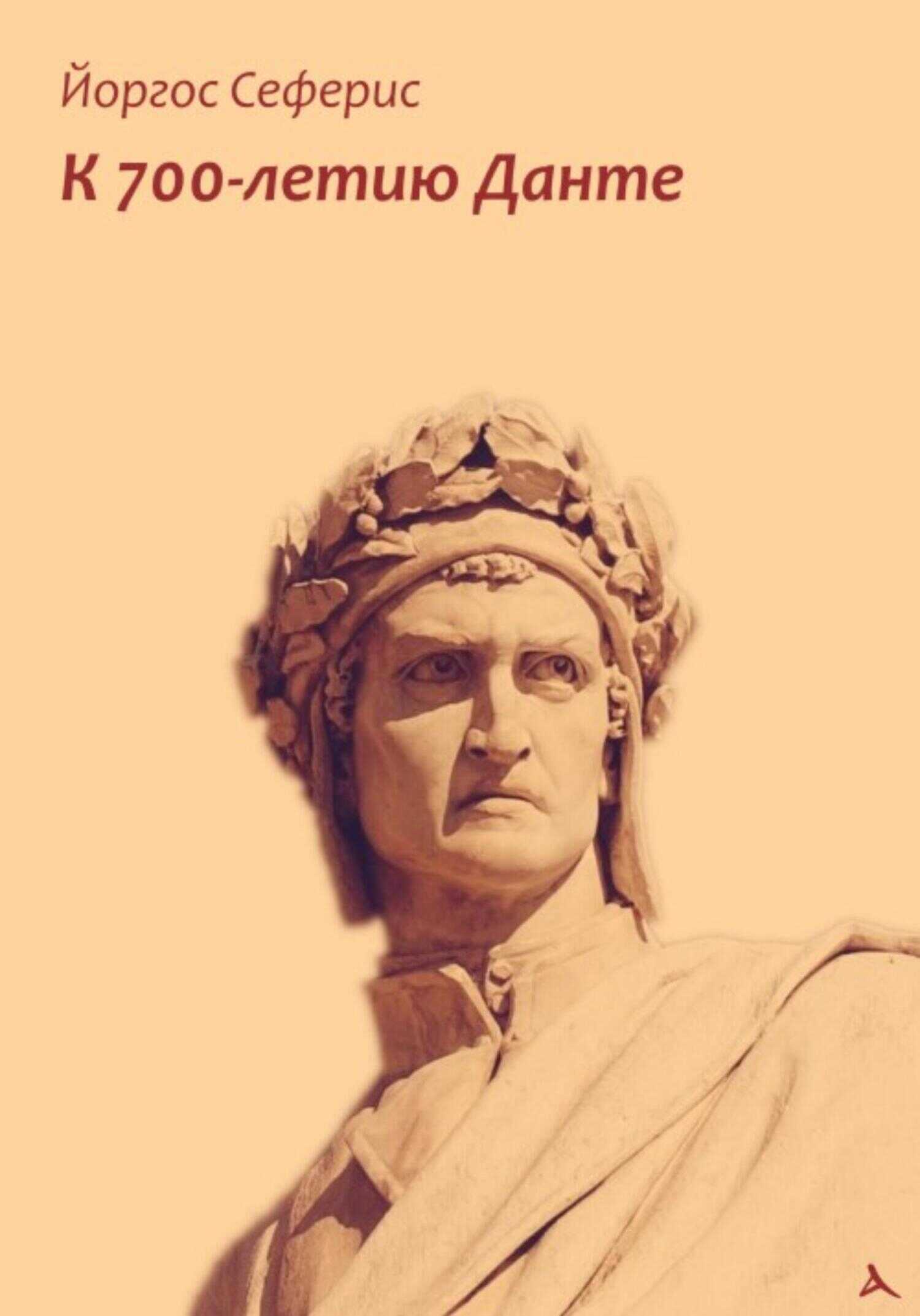из дому – это уже болезнь!
Дядя встает и идет к двери.
ИВАН ПАВЛОВИЧ (каким-то странным голосом, почти фальцетом). Я принесу тебе чаю.
АЛЕША. Это болезнь и ты можешь умереть от этого! Тебя в землю закопают!..
ИВАН ПАВЛОВИЧ (в дверях). С лимоном. Сахар не нужно размешивать.
АЛЕША. Постой! Нюта принесла мне чаю! Вот он! Постой!
ИВАН ПАВЛОВИЧ быстро выходит.
В землю закопают.
АЛЕША пошел за ширму. Роется там на столе.
Конечно! Конечно же!..
Вышел из‐за ширм и машет по воздуху письмом.
(Читает.) «…Не надо отвечать на это письмо! Не надо, не надо, хороший мой! Странно было бы вести переписку в моем теперешнем положении. Я очень благодарна тебе за все, что ты сделал для меня. Мы часто с Котиком гуляем по твоей улице, и я смотрю на твои окна. Смотри, говорю я Котику, – вон там живет очень хороший дядя… Она смотрит во все свои глазенки и ничего, конечно, еще не понимает. Она обязана своим рождением только тебе! И если бы не ты, ее не было бы на свете никогда! Муж мой об этом знает и тоже так считает, как я. С рождением Котика моя жизнь наполнилась смыслом, и я счастлива!.. Иногда мне кажется, что глазки у Котика – твои, хотя я знаю, что это не твой ребенок. Но я слишком долго смотрела в твои глаза…»
Обрывает чтение.
Сволочь!.. (Смеется.) Что они с нами делают! Что делают?!
Вошел ИВАН ПАВЛОВИЧ, но АЛЕША и не заметил его.
Дядя увидел письмо в АЛЕШИНЫХ руках. Замер.
(Читает.) «…Наступит день, и мы все соберемся вечером под нашим зеленым абажуром, и будем пить чай с засахаренными орешками (помнишь, как любила их!) и все мы скажем тебе, как мы тебе благодарны, и муж мой скажет, и я, и Котик тоже скажет! Она уже говорит слово „дуля“…»
АЛЕША увидел внезапно дядю. Растерялся.
ИВАН ПАВЛОВИЧ (он смутился). Алеша… Нельзя же читать чужие письма. Это очень непорядочно, Алеша…
АЛЕША. Прости. Подвернулось как-то…
ИВАН ПАВЛОВИЧ. Помнишь, когда ты подглядывал в купальне… Я тебя тогда очень сильно ударил… Кажется, из губы шла кровь… Уйди, пожалуйста, Алеша. Я очень прошу.
АЛЕША очень напугался. Он схватил один сапог, попытался его быстро надеть. Не получилось. Натянул до половины.
АЛЕША. Я сейчас. Я там надену. Ничего, ничего… Я – там.
И выбежал. Одна нога босая.
ИВАН ПАВЛОВИЧ поднял брошенное АЛЕШЕЙ письмо. И опустил его в китайскую вазу с мелкими трещинками, которая стояла на буфете. Помолчал. Потом сунул руку в вазу и достал оттуда целый ворох писем. Рассмеялся. И бросил все их туда снова.
ИВАН ПАВЛОВИЧ (гулко, в вазу). Хорошая, хорошая… хорошая моя! У вас очень хорошее, доброе сердце – и вы не можете делать гадкие вещи! Например – мучить хорошего, в общем-то, человека… Он просит вас только об одном… Не надо, не надо… не надо ко мне никаких писать писем!
И поставил вазу на место. Пауза. С большим интересом осмотрелся он вокруг.
Я все забыл. Я не помню ничего. Вот за окном шел сильный дождь… А окно было поднято вверх, и лень было его опускать. У них, знаете, окна почему-то не растворяются так по-простому наружу створками, а поднимаются вверх. И все думаешь, что вот – хлопнется рама сейчас вниз и полетят брызги стекол. Это я очень хорошо почему-то помню. Рама, которая в любой момент может хлопнуться вниз… Как я уронил кувшин с водою?.. Помню! Я смеялся тогда до слез. И тонкие листы почтовой бумаги помню, где было вытеснено готическими буквами: «отель Хофман»… И все!.. Не поверите, смешно, но – правда-правда! – я все забыл. Честное слово!
Задумался.
А ведь отель Хофман можно произнести как Гофман, если хочешь. Это у них все равно: что им Хофман, что Гофман…
В то время, когда ИВАН ПАВЛОВИЧ говорил о хофманах и гофманах, появился АЛЕША. До этого он лишь заглядывал в дверь, а тут и сам вошел. Робко встал у порога.
АЛЕША. Дядечка… Можно я возьму сапог? Мне ведь холодно…
Дядя посмотрел на него, не узнавая, и засмеялся.
И АЛЕША засмеялся.
Дядечка, я не могу больше мерзнуть в прихожей. Прости меня.
ИВАН ПАВЛОВИЧ. Конечно, конечно! Орешки в сахаре – это очень веселое занятие. Кидать их в рот! Иной раз и не попадешь, а это очень смешно.
АЛЕША. Ты уж не сердишься на меня? Я так больше не буду.
ИВАН ПАВЛОВИЧ. А тут, знаешь, входит человек. Посмотрел он на меня так мутно-мутно… И – бах перед ней на колена! И что-то такое ужасное стал говорить, я даже ни слова не понял. А мне вдруг сделалось скучно, потому что она смотрит на меня так, как будто видит в первый раз. То есть очень-очень внимательно. Небольшого росточка, блондин, с такими руками, будто он их где-то застудил… Я взял еще горсть орешков, пожал плечами и пошел гулять вдоль реки.
АЛЕША. Знаешь, дядя… Это меня черт толкнул, я не виноват…
ИВАН ПАВЛОВИЧ. Очень грязная маленькая речка, с названием, которое я совершенно забыл! Надо будет на карте посмотреть. Они там все свои глупые речки на карту заносят. Потом я пошел еще за горсточкой орешков, а их уж и не было в комнате никого… Потом мне все говорили, что этот человек, он вовсе, мол, не блондин, а брюнет, и выше меня чуть ли на целую голову!.. Я говорю – помилуйте! – значит у нее двое мужей! Ведь тот, что входил, был блондином! А двоемужество – это уже смешно, это несерьезно, господа, для такого о ней разговора. А если он в Германию въехал блондином, а в России живет как брюнет… Он тогда и вовсе не заслуживает никакого к нему отношения!..
АЛЕША. И они уехали. А ты остался там один.
ИВАН ПАВЛОВИЧ. Знаешь, Алешка, я это вдруг забыл. Да, наверное, так – они уехали, а я остался там один… Я долго еще прибирал в комнате. Ведь я, как ты знаешь, очень аккуратный, а она везде, всегда все разваливала ужас как. (Смеется.) Если я эту историю не выдумал сейчас же… Я люблю так – повалиться на диван и выдумать историю. (Внезапно.) Смотри, смотри!
Тащит АЛЕШУ к окну.
АЛЕША. Кто там? Ничего не вижу. Кто это?
ИВАН ПАВЛОВИЧ. «Лучшая крыша Руберойд инженера А. Вэ. Эльбен в Санкт-Петербурге»! Где ошибка? Ага, не видишь! А я давно для себя пометил: «инженер» редко пишут с буквой «и», все больше с «е». Прости, я на минутку!
И выскочил за дверь. Не дал сказать АЛЕШЕ ни слова.
АЛЕША (тупо глядя в окно). Ин-жи-нер… Ин-же-нер… Какая разница?
Садится в кресло и натягивает сапог. Топнул каблуком.
Мерзавки! Страшные мерзавки, вот что я вам скажу… Все, как одна. Да-с!..
Помолчал.
Наш брат старается не вникать в частности, мы ведь очень мало чего понимаем, совсем немножко… Мужчина все как-то бочком старается жить, сторонкой, чтоб не очень им мешать. А они, наоборот! Они уютненько так живут, с удобствами… Отчего это у дам комнаты всегда уютнее мужских?.. И как чай пить, они знают – где какой салфеткой выстелить… Вот интересная мысль – почему это так получается, что они у себя дома, а мы – как бы у них в гостях?!. А ведь они живут у нас на головах! И все что-то нас виноватят… Сначала – нянька-ведьма, потом мамаша за дело принимается, а придет время – найдется еще одна. Уж не беспокойтесь себе – сама сыщется! Со вспотевшей верхней губкой…
Задумывается.
И живут они дольше нас. Мужчина умирает раньше.
Шум в прихожей. И через некоторое время входит САШЕНЬКА, племянница ИВАНА ПАВЛОВИЧА. На ней беличья шапочка, вся она румяная от мороза.
САШЕНЬКА. Дяде письмо! Дяде письмо!.. Ай, должно быть,