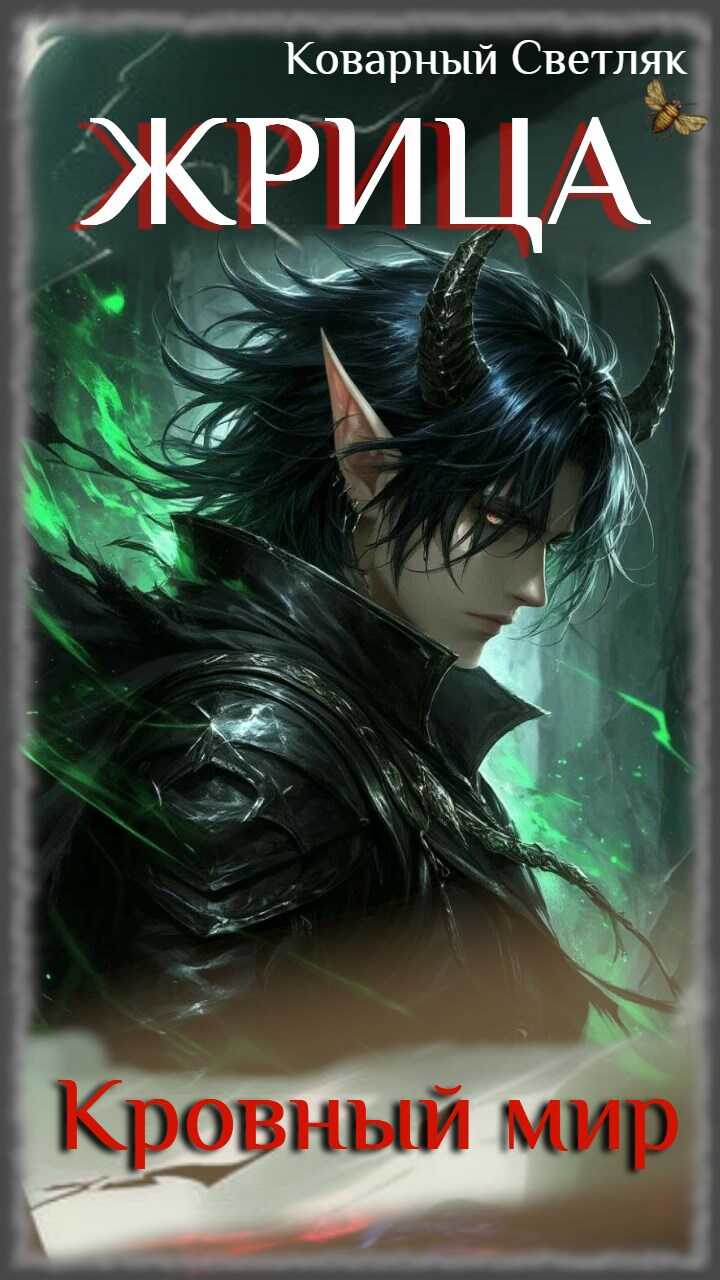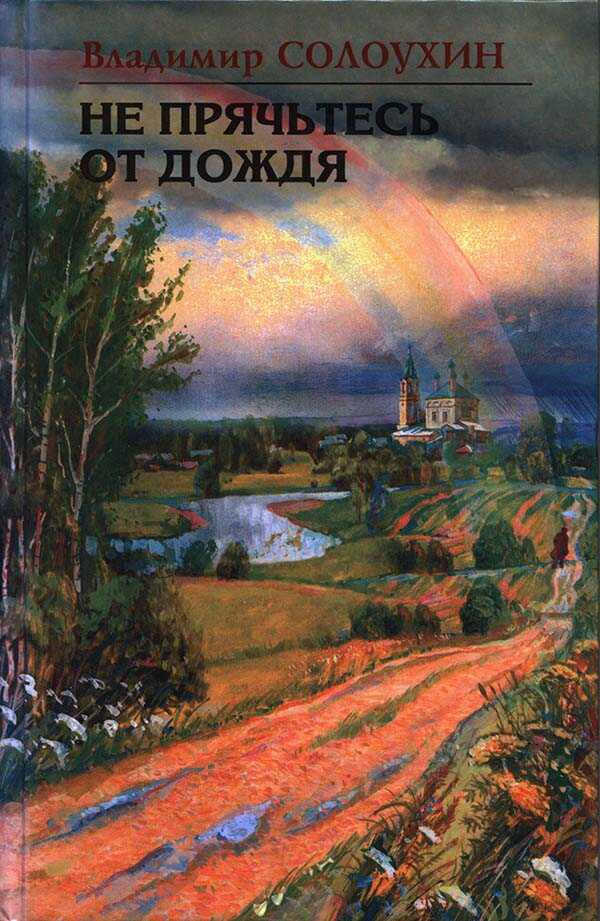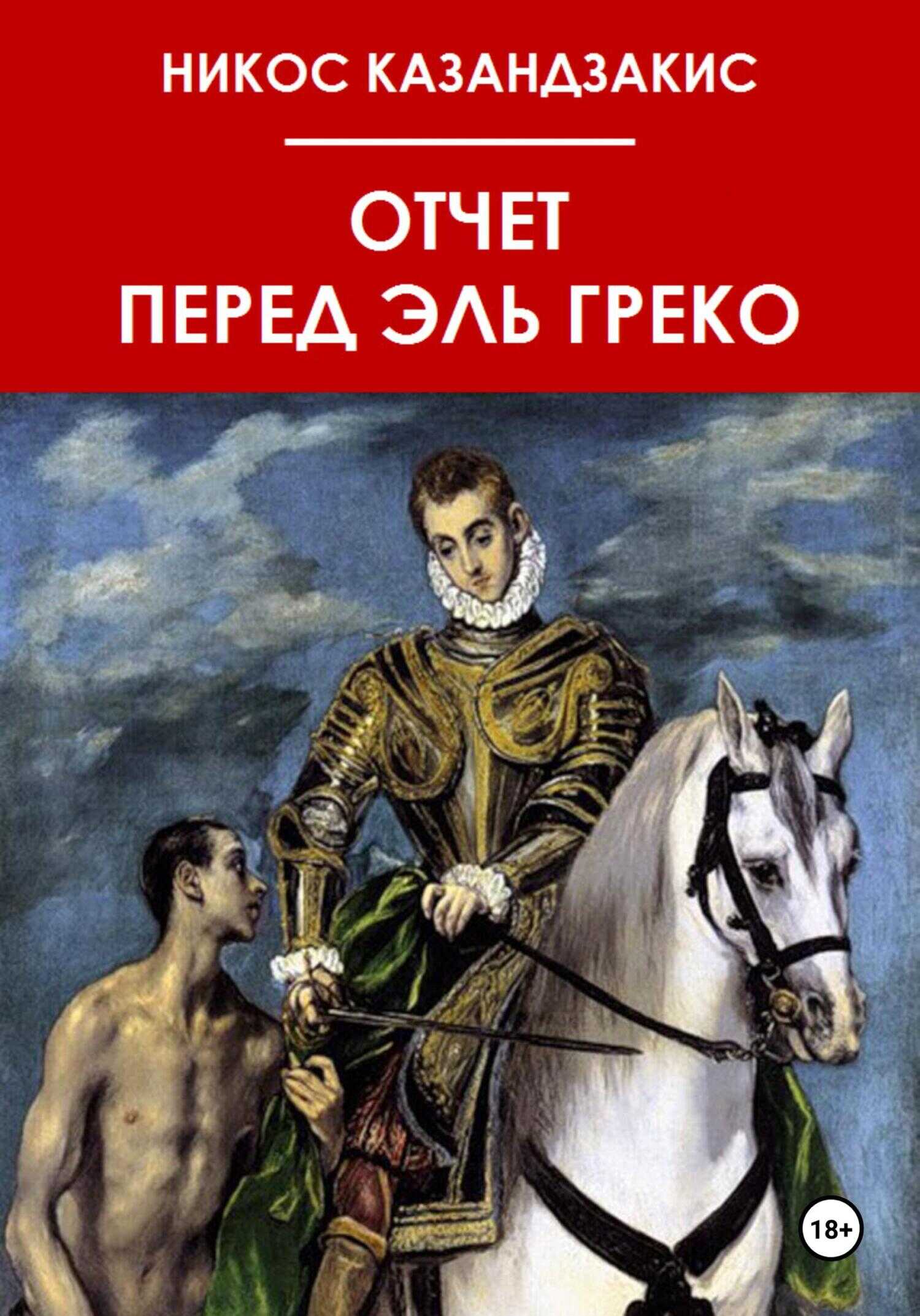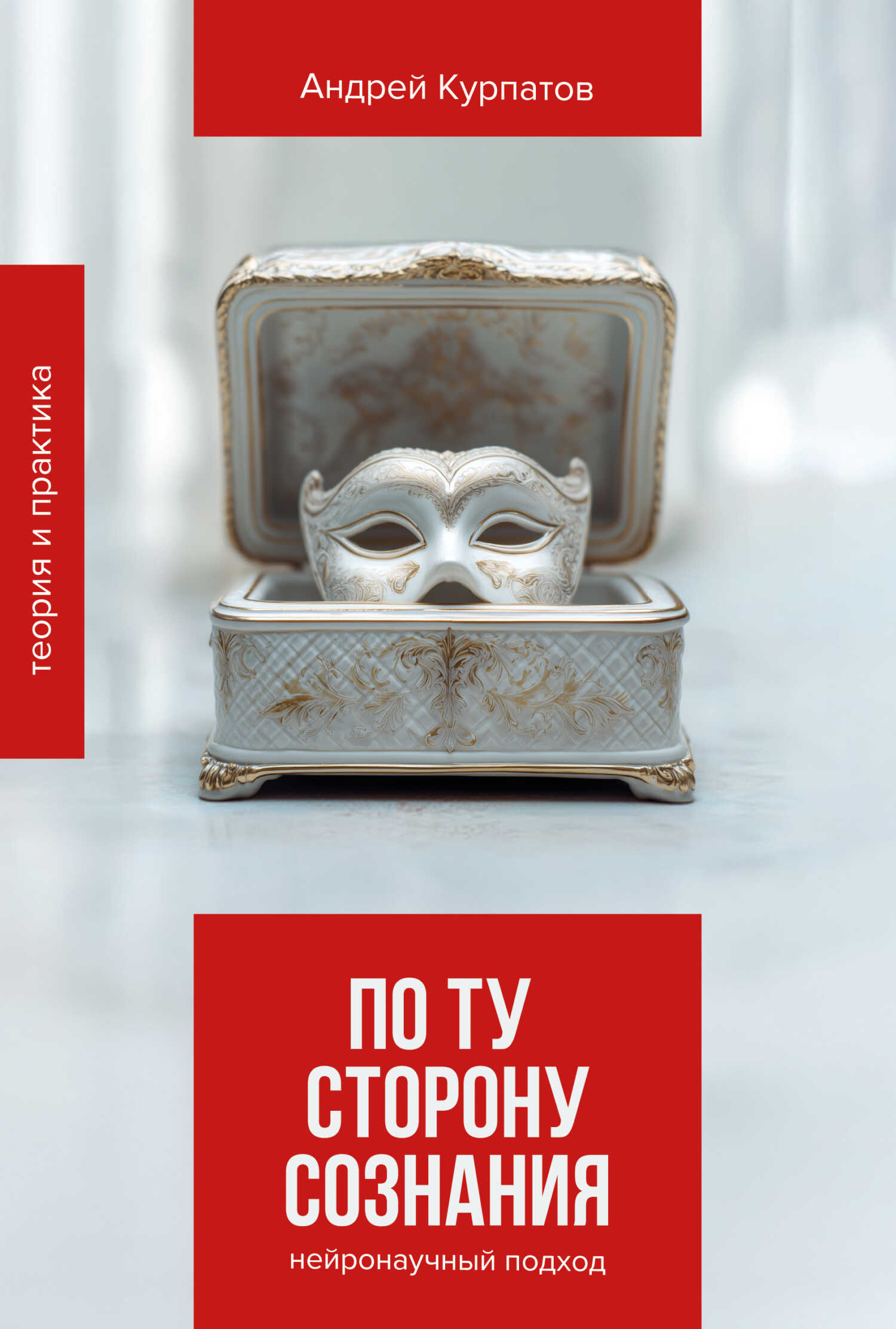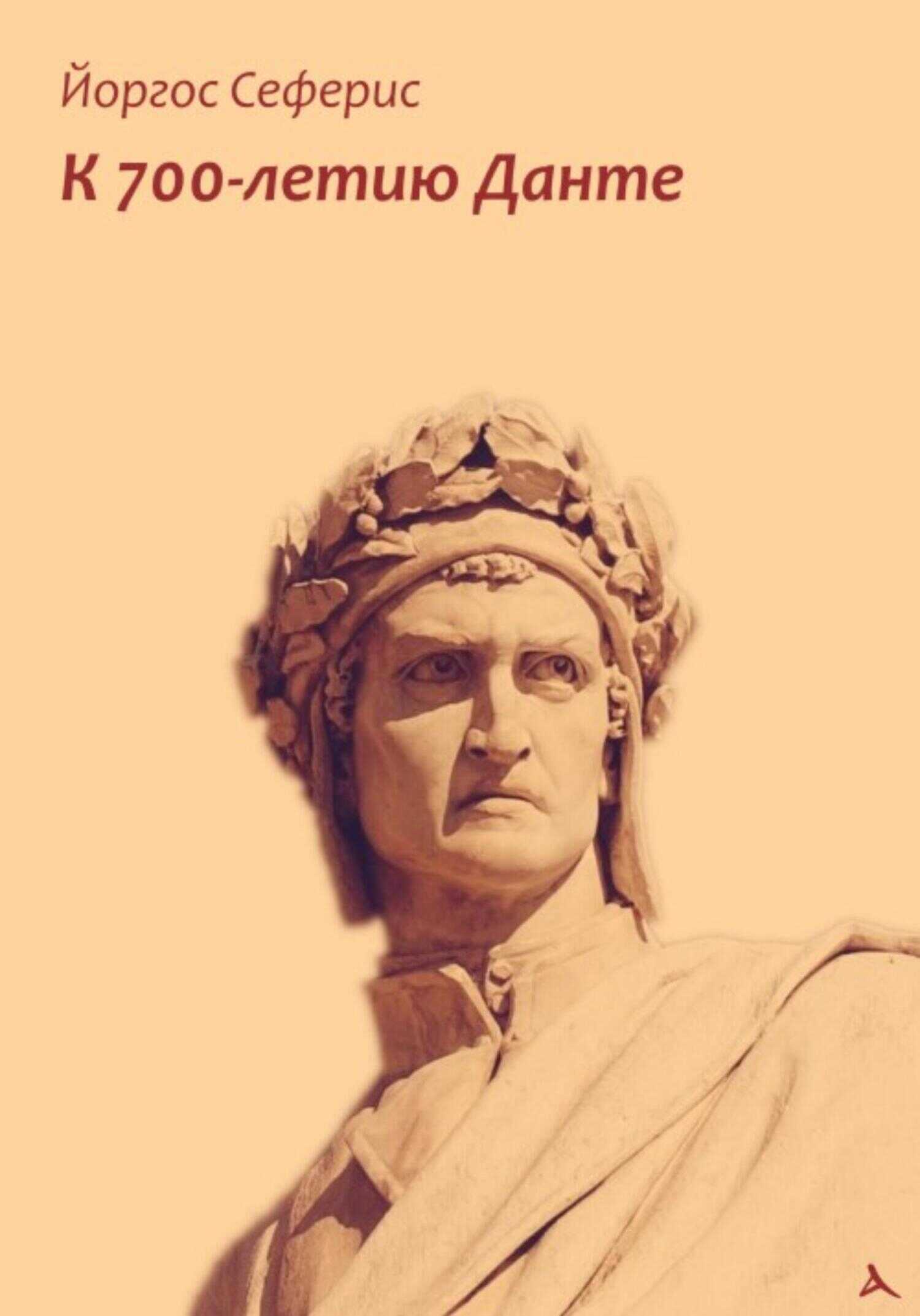для сладостей. В детстве было интересно, спрятавшись в нижней колоде, подслушивать потайные разговоры отца с Нютой, а потом отца с матерью, а после матери с Нютой. И все кончалось слезами… А в отделении для салфеток был тайник, но про него все знали. И в отделении для вилок – тайник, но про него знали лишь некоторые, не все. Среди фарфоров есть и пастух с пастушкой, и Тальони с крылышками мотылька, и фавн с отломанной ногою. Пасхальные яйца из серебра и слоновой кости: серебряное заводится и позванивает, а костяное – заводится и кружится. Китайские, в мелких трещинках вазы, расписанные травами, где хранятся разные глупости.
Сине-черная обнаженная дева – светильник занимает особое место в гостиной. Она так изогнула одно бедро, что можно положить на него коробочку со спичками, и коробочка не свалится. У нее большой черный живот, и кажется, что она вот-вот родит сине-черного холодного младенчика. У нее видна черная пуговица соска. Черные ноги ее скрещены, меж них не заглянешь, и пальчик туда не вложишь. Зато весело, когда взрослых нет рядом, шлепнуть ее по широким черным ягодицам. А пальчики на ее черных ногах толстые и короткие, и мизинчик – с виноградную длинную ягодку.
На этажерке – заводной симфонион, в нем сорок тонов; с жестяным диском, где слепыми дырочками наколота итальянская музыка.
А письменного стола не видно, он за ширмами. Лишь когда зажигают на нем свечи – смутно высвечиваются его очертания. Глобус с вмятиной на Африке и на Аляске, с выпуклостью на Туркестане. На столе чернильный прибор в виде тургеневской охотничьей собаки: изгибами своего тела она облегла две узкогорлые черниленки, а лапу положила на перочистку. Зеленое сукно залито по левую руку чернилами, пятно вышло видом с зайца с двумя ушами. Узкая дамская рука прижимает пружинкой письма и старые рецепты. На ноже для разрезания бумаги надпись на восточном языке, ее можно толковать по-разному, как захочется. Ящичек с уральскими камушками оклеен серой мраморной бумагой. Хрустальная пепельница и фарфоровая тройка с санями, где ровными полешками уложены спички с толстыми серными головками. Малахитовая коробочка с перстнем отца, с медальоном матери, где лежит прядь волос неизвестного; орешек в золотой бумаге; игральная карта – пиковая десятка, означающая черную вещь, болезнь, а при короле или даме – брачную постель… Сверкают песочные часы – получасовые; песок течет так медленно, что можно отлететь от хода событий на расстояние Луны…
Широкие и тяжелые двери, с медными ручками и защелками. Открываются они с шумом, с протяжным скрипом. В детстве хорошо было кататься на этих тяжелых дверях.
Полукорпусом выступает из стены ребристого кафеля печь. Квадратики кафеля все в мелких жилочках-трещинках. На темной дверце печи отлит изогнутый цветок лилии; вьюшки ее как пуговички на мундире, начищены. На гладком кафеле можно написать чернилами плохое слово. Если шепотом прочитать его – по животу пройдет холодок. За корявыми буковками можно вслед, чуть с запозданием, представить тот предмет, который это словцо означает. Если предмет мужской, то можно просто усмехнуться, а если женский, то скорее послюнить палец и стереть написанное, как будто его здесь и не было никогда.
Легкие ширмы расписаны узкими подводными травами. А рыбы больше похожи на птиц…
За окнами светло.
ИВАН ПАВЛОВИЧ стоит, повернувшись к нам спиной, смотрит в окно.
ИВАН ПАВЛОВИЧ. …Убежали, гамак бросили, книжку в нем забыли. Один, пустой веревочный гамак. Майн Рид или что там еще…
Молчит.
В купальню теперь пойти невозможно. Там поселились пиявки. Теперь нужно с размаху бухаться в воду, а потом искать – где еще выйти… (Через паузу.) Если вода попала в ухо, нужно потрясти в нем мизинчиком и попрыгать на одной ноге… (Через паузу.) Не надо щуриться на солнце, а то вокруг глаз будут белые морщинки! И челочку со лба лучше прибрать кверху, а то лоб будет белый…
Молчит. Трет лоб.
На спинке скамейки лупой выжжено – «дурак»… (Смеется.) И выжжено-то без твердого знака, без ера на конце слова. А потому, что – лень! А потому, что твердый знак на конце слова всегда казался лишним. Потому, что даже тут ни одного дела до конца довести не можешь, потому, что все – наскоро!.. Лучик нужно собрать в страшно маленькую точку и ею, как иголочкой, нажечь. Сначала пойдет дымок, из-под дымка проявится коричневая точка. Точку вывести на линию и ровно нажечь букву. Если твердое окончание, то, конечно же, должен стоять ер в конце слова! Но что же сделаешь, если вдруг тебе становится скучно, если ни одного дела ты как следует довести до конца не можешь…
Молчит.
Не надо щуриться на солнце, смотри ровно, пусть тебе в глаза слепит, а ты не щурься, ты же не шурин! Шурин – щурится!.. Зять любит взять, тесть любит честь, а шурин – глаза прищурил…
Молчит.
Нужно развести в теплой воде мыльного порошку и побриться. Нужно пойти в город. Нужно взять шляпу с полями и трость и пойти. Нужно зайти в кондитерскую, например. Потом погулять у реки. Еще нужно зайти в аптеку. Там в витрине поставлены большие стеклянные шары, налитые водою, подкрашенные в красный, зеленый и синий цвет. Там продают ландриновые леденцы от горла…
Молчит.
А если будет гроза, то есть специальный от дождя зонтик. Нужно пойти и побриться, если идти в аптеку и погулять, в кондитерскую…
Вздыхает.
Убил Бог лето мухами!..
Молчит.
В саду есть шалашик, там можно лечь на живот и читать «Капитанскую дочку». В шалашике можно сговариваться на обмен – кузнечика в коробочке на божьих коровок. В то лето кузнечик шел за двух коровок, а не за трех… Еще нужно быть внимательным, чтоб гусеница не свалилась на тебя с шалашиковой крыши… Можно играть в первых переселенцев… В можно – в «Кавказского пленника». Нужно схватиться пальцами в замок, как если б руки были связаны, а на ноги надеть колодки – привязать садовую лейку. И сидеть, закрыв глаза. И хотеть пить! А тебе никто пить не дает!.. А потом дождаться момента. И бежать смешным прискоком, чтобы не запнуться о лейку. Бежать и кричать – «Братцы, братцы! Спасите!..» И упасть на газончик, где уже – наши, где горцы позади! А наши, смеясь, снимают с тебя колодки и швыряют садовую лейку в кусты…
Молчит.
«Братцы, братцы, я – свой, я – наш…»
Слышен колокольчик в дверях.
ИВАН ПАВЛОВИЧ как будто и не слышит его.
Входит АЛЕША, племянник ИВАНА ПАВЛОВИЧА. На нем фуражка, а под ней – фетровые черные наушнички, они резинкой стянуты поверху и понизу. Шинель он сбросил в прихожей.
АЛЕША. Иль фэ фруа, иль жель, иль нэж деор!..[2]
ИВАН ПАВЛОВИЧ молчит, не оборачивается.
Ужас, как холодно!
ИВАН ПАВЛОВИЧ (после паузы). Я слышу.
АЛЕША садится в кресло. Трет покрасневшие руки.
АЛЕША. Даже в груди покалывает. Нельзя вздохнуть глубоко от морозу.
Зажмурил глаза.
Ай-яй-яй!..
И еще раз, протяжно.
Ай-яй-яй!..
ИВАН ПАВЛОВИЧ (оборачивается к нему). Ну что ты? Что ты шумный такой?
АЛЕША пытается стянуть с ноги сапог. Но сапог надет очень туго.
И тогда ИВАН ПАВЛОВИЧ принялся ему помогать.
Возятся они долго. Стянули один сапог.
(Отдышавшись.) Зачем же носить такие узкие сапоги? Ведь все равно, что босиком ходить – такие тонкие, такие узкие.
АЛЕША (жалобно). Ай-яй-яй!..
ИВАН ПАВЛОВИЧ (принялся за второй сапог). Декабрь! Холодно. Зачем же форсить?
Стянули сапог.
АЛЕША (с отчаянием). Отморозил? Отморозил?
ИВАН ПАВЛОВИЧ. Нет. Сунь их под себя, чтоб согрелись.
АЛЕША усаживается с ногами в кресло, как велел ему ИВАН ПАВЛОВИЧ.
АЛЕША (страдая). Не дашь ли ты мне теперь чаю?
ИВАН ПАВЛОВИЧ идет к двери.
Чаю погорячее, погорячее чаю!
ИВАН ПАВЛОВИЧ (выходя). Фуражку снял бы.
И ушел.
АЛЕША послушно снял фуражку. Немножко попрыгал в кресле, на подложенных ногах. Попрыгал и затих, засмотрелся на узкие травы на ширме,