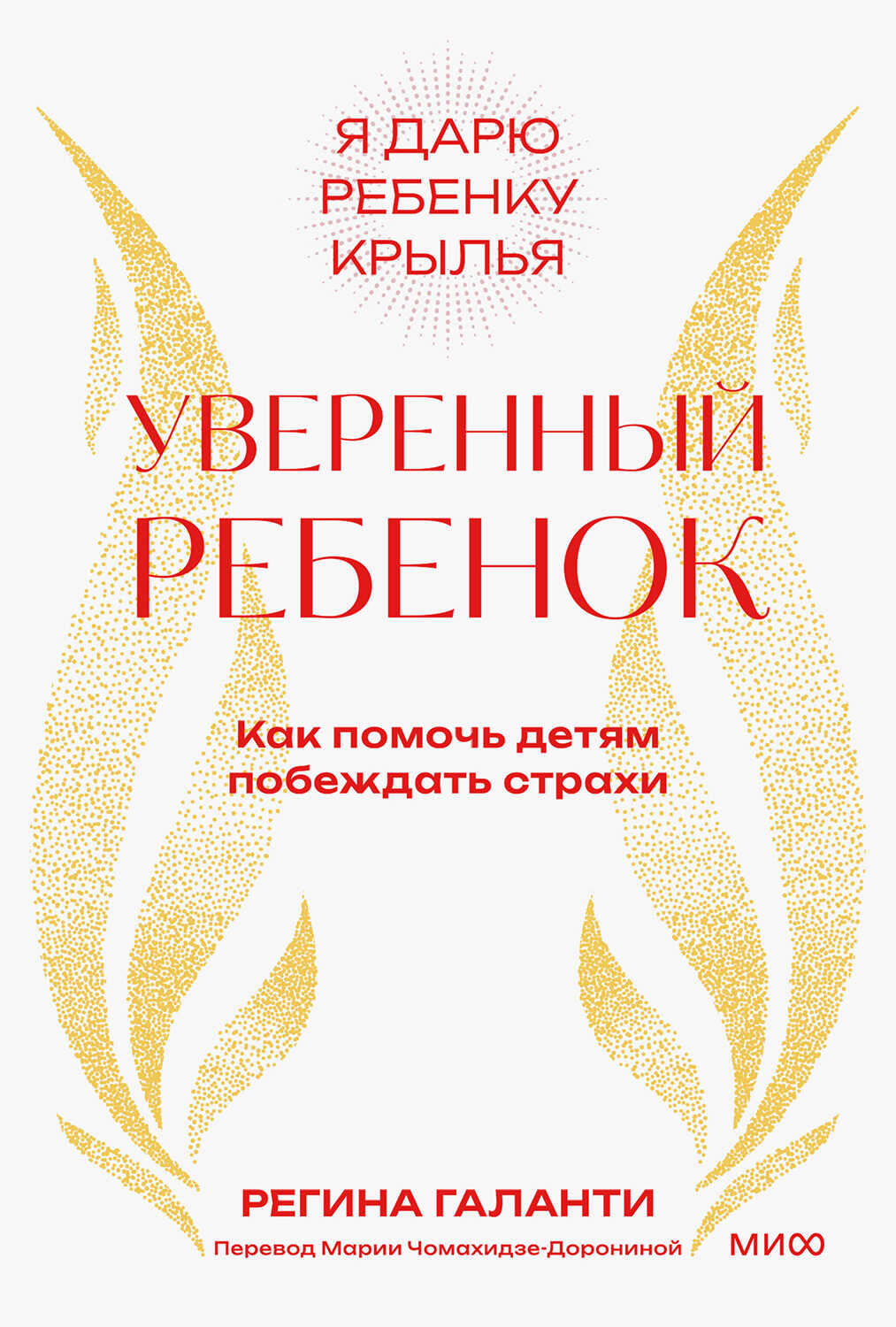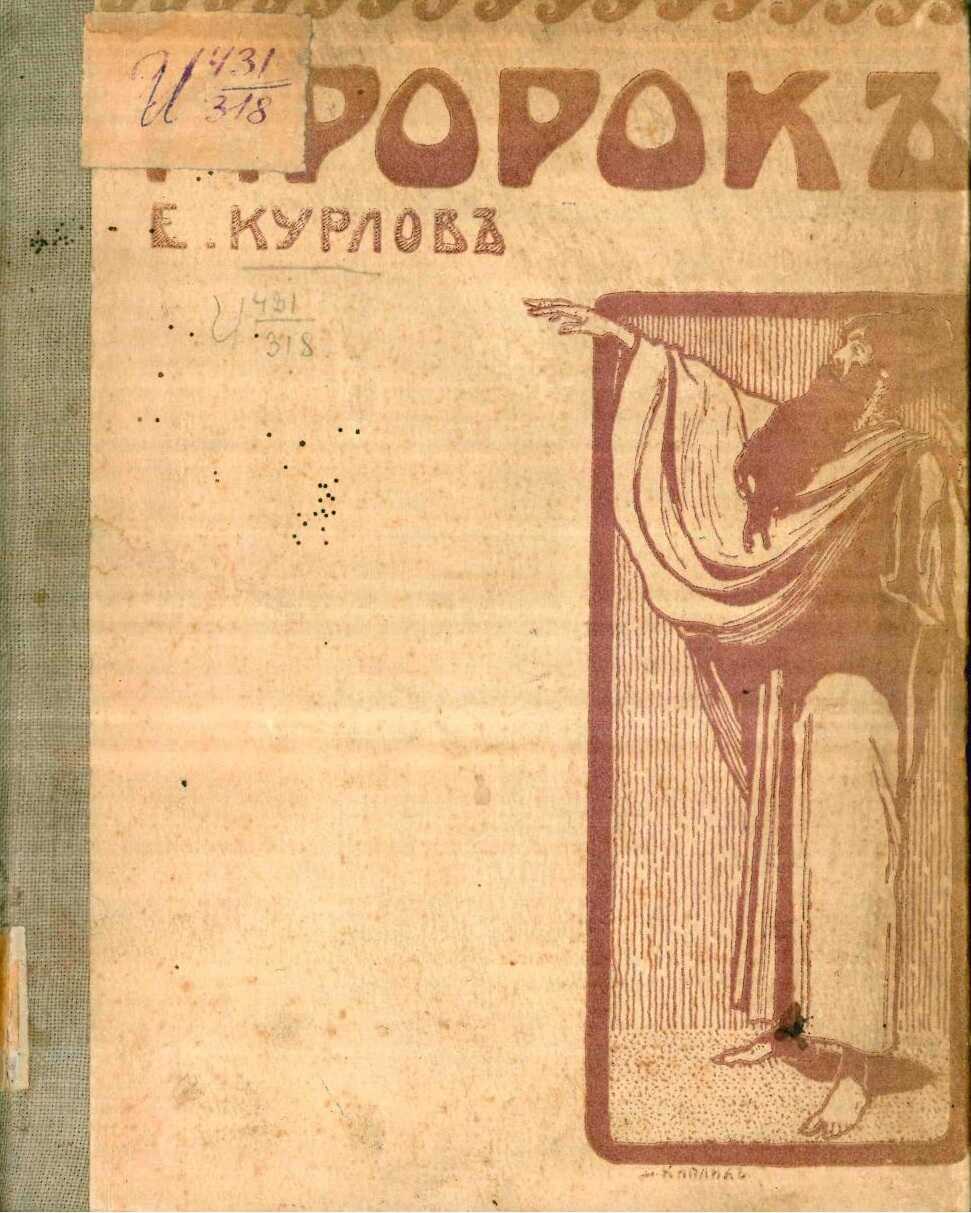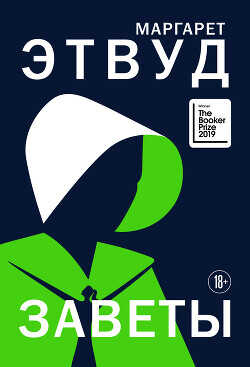будет, как сейчас? Вы ученый человек, я простой батрак. Детей мне жалко: они у меня хорошо учились и учатся, — а быть им опять такими же батраками… Неужели всегда так будет?
— Нет! Еще какое-то время так протянется, но не навсегда. Есть страна, где уже нет ни батраков, ни…
— Пан адъюнкт! Пожалуйте ужинать! — высоким голосом закричала на дворе служанка.
Марек встал, пошел к двери. На пороге обернулся, закончил фразу:
— …ни господ!
У него стало легче на душе.
После ужина подкатила, сигналя, машина, из нее вывалился пан сенатор с сыновьями-гимназистами. Вскоре горничная позвала Марека на допрос. Час прошел, пока ему удалось успокоить господ, охваченных праведным гневом. Он сам удивлялся своему успеху. И конечно ничего у него не вышло бы, если б он сознался, что выплатил поденщикам по лишней кроне в день. Хозяева были так раздражены, что не переварили бы такой вести, бедняги.
Вечером, когда стемнело, зажег Марек лампу в своей комнате и занялся счетами: надо было подвести итоги за неделю. Сосредоточиться было очень трудно — возле батрацких лачуг наяривала гармонь, ходуном ходила в могучих руках Мишо-кучера. Пели девки. Мишо то забегал вперед, то отставал со своим пронзительным аккомпанементом. Хоть плачь, хоть ругайся — толку никакого.
Поживешь да жизнь узнаешь —
пожалеешь…
Работать было невозможно. Марек шагал по комнате, зажав уши ладонями. Он мог выбежать во двор, прикрикнуть на гармониста, на певцов, послать их к черту — и они, вероятно, замолчали бы; но, господи боже, что же им еще делать после целой недели каторжного труда? Марек потер ладонью лоб и устыдился самой мысли о таком поступке. Ведь это значило бы сделать самое худшее, что может быть на свете: отнять у молодежи последнюю радость, испортить им субботний вечер, на который они имеют полное право… Для них гармонь и песня — самая трогательная молитва, какая только возможна в «Тюльпане»…
Марек сел к столу, одурело уставился в счетные книги. Вошла горничная. Безмолвно и быстро приготовила постель. И столь же безмолвно удалилась. Прекрасно. По крайней мере не будет больше марать бумагу своими цветочками да птичками, своими стишками, выписанными из «Письмовника для влюбленных». Марек высунулся из окна — подышать теплым воздухом. Ветерок принес этот самый воздух прямо с навозных куч, из траншей, где догнивали остатки, силоса. От этой кислой вони Марека затошнило, и он поспешил закрыть окно. Снова сел за счета. Звуки гармошки доносились теперь как из подземелья — гулко, глухо, но по-прежнему назойливо…
Только в одиннадцать часов, когда на «Тюльпан» спустилась милосердная тишина, Марек смог открыть окно и закрыть свои книги. Пора было укладываться спать, довольно он намаялся за день. Он сел на чемодан — единственный предмет обстановки, бесспорно принадлежавший ему из всех богатств «Тюльпана», — и задумался. Прошедший день казался ему долгим, как неделя. Утро упало на самое дно времени, и теперь даже трудно было вспомнить, чем оно было наполнено, — оно лежало в такой глубокой яме, что взор Марека не достигал его.
Куда лучше различал он турецкий платочек Геленки и голубые молнии, бьющие из-под него. Это приятно… Но еще явственнее слышал Марек насмешливый голос Геленкиного отца, который назвал его «подпанком». Эх, жаль! Вообще не везет ему на турецкие платочки… Или везет? Он встал, открыл чемодан. Нарочно вынул Люцийкин платок; но едва этот лоскут оказался у него в руках, как заслонил собой весь долгий день. Руки сами разостлали заветный платок на столе. И повернули лицом к людям портрет над столом, к которому Марек снова подсел и долго сидел в глубокой задумчивости. Улыбался даже… Взял чистый лист, обмакнул перо и написал:
«Милое имя, начинающееся буквой Л.!
Передай мой привет молодой твоей госпоже, что носит тебя по Оленьим Склонам. Шепни ей, красивой, что с тех пор, как ушла она от расцветших сиреней у часовни святого Урбана, опустело сердце ее милого. Объясни ей, надменной, что грешно ей сердиться на него, что в тяжелую минуту ослеплен был он гневом и не заметил, что и у нее болит сердце. Спроси у нее, гордой, именем всего, что ей дорого…»
— Пан адъюнкт, скорее! — распахнул дверь Вираг-конюх. — С кобылой дело плохо!
Кобыле действительно было плохо, но лишь до восхода солнца. Когда оно заглянуло в конюшню через восточные окна и осветило противоположную стену, взмокший адъюнкт отвязал фартук, снял рубашку, всю в крови и слизи, и умылся в лохани. Потом накинул пиджак на голые плечи и любовно оглядел маленькую семью: кобыла, измученная, лежала и, круто изогнув шею, восхищенным взором смотрела на невероятно длинноногого жеребеночка, копошившегося рядом с ней в соломе. Марек вышел из конюшни, прошел через помещение, где заготавливают корм, и оказался в коровнике; расставив ноги, стояли коровы — их доили. Марек улыбнулся, прислонился к столбу и закурил сигарету, — чтоб не заснуть под певучие звуки сепаратора, который крутил Вираг-молочник.
Владелец «Тюльпана», а также процветающей адвокатской конторы в Сливнице, доктор прав Матуш Грайнога появился в хлевах, когда коровы уже были подоены и весь скот накормлен. Любит поспать Матуш Грайнога, как и все владельцы поместий и адвокатских контор, а в особенности — будущие сенаторы от партии клеверного листка. Розовый после хорошего сна, Матуш Грайнога долго пробыл в конюшне и дал Вирагу-конюху полсотни за жеребенка.
— Что же вы меня не разбудили? — с упреком заметил он.
— Пан адъюнкт не велели… вон, забыли! — И Вираг показал сенатору рубашку Габджи.
— Господи, что он тут делал? — ужаснулся Грайнога при виде окровавленной тряпки.
— За ветеринара работал. Роды были трудные…
Хозяин повернулся, пересек двор и вошел в контору.
Марек спал. Лежал поперек кровати, одетый, и спал как убитый. Помещик положил на стол сотенную бумажку и тут заметил начатое письмо: «Милое имя, начинающееся буквой Л.!» Улыбнулся и приложил к первой сотне вторую. Видно, на правильном месте было сердце у помещика… Вырвал листок из своего блокнота, написал: «За успешное ветеринарное вмешательство — гонорар 200 крон. Д-р Матуш Грайнога». Положил листок на деньги и тихонько вышел.
Увы, хозяйка совсем иначе посмотрела на неурочный сон адъюнкта. В половине десятого, когда подошло время ехать в костел, она прибежала в контору, стащила Марека с кровати. Была она до отвращения набожна и посему буквально задрожала за душу своего подчиненного, едва лишь рассудила своим богомольным умом, что станется с молодым человеком на том свете, если он не прослушает воскресной мессы. Мареку пришлось поспешно привести себя в порядок и занять место в коляске — напротив хозяйки,


![Красное вино Победы[сборник 2022] - Евгений Иванович Носов](/uploads/posts/books/346516/346516.jpg)







![Кармилла [сборник] - Джозеф Шеридан Ле Фаню](/uploads/posts/books/421995/421995.jpg)