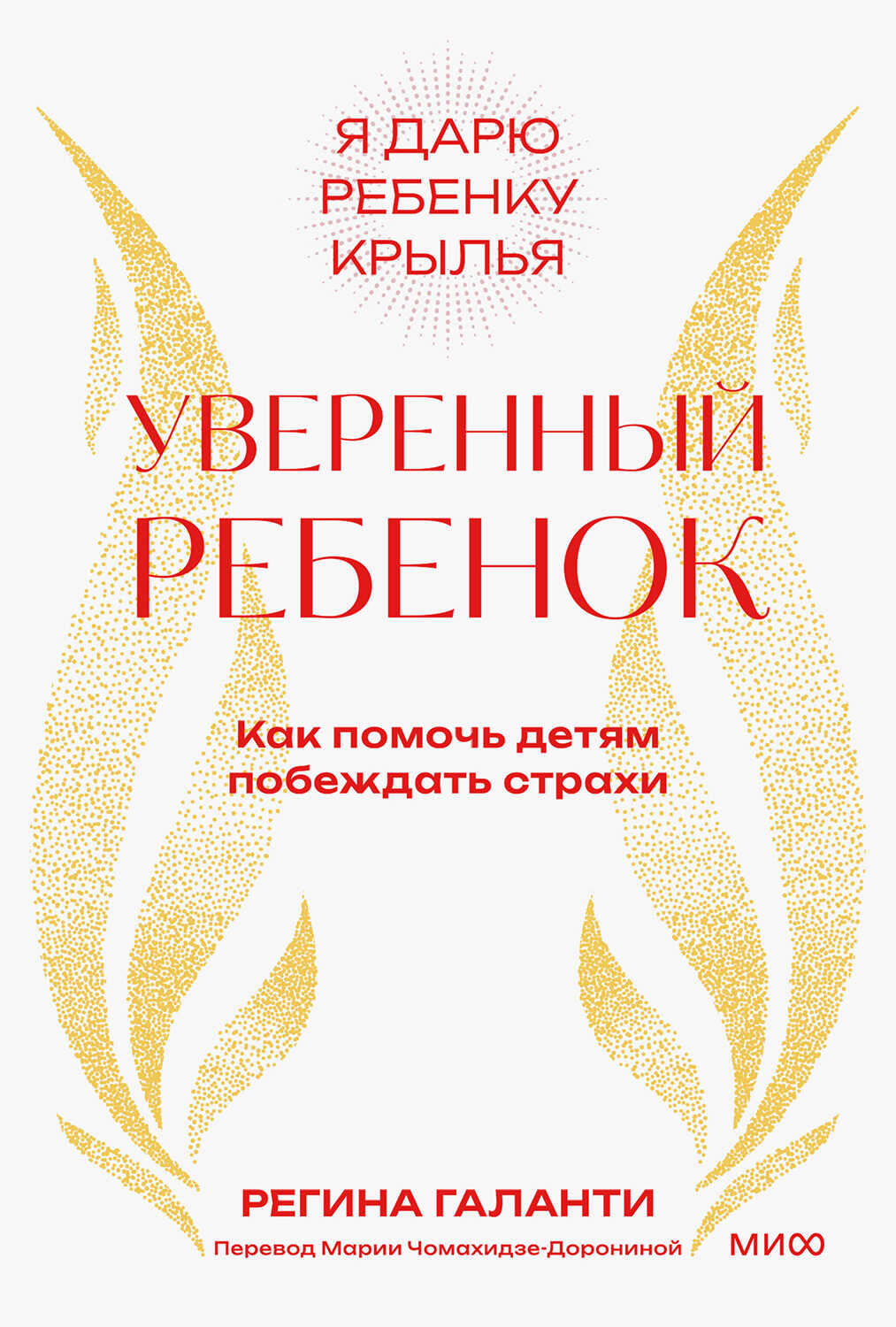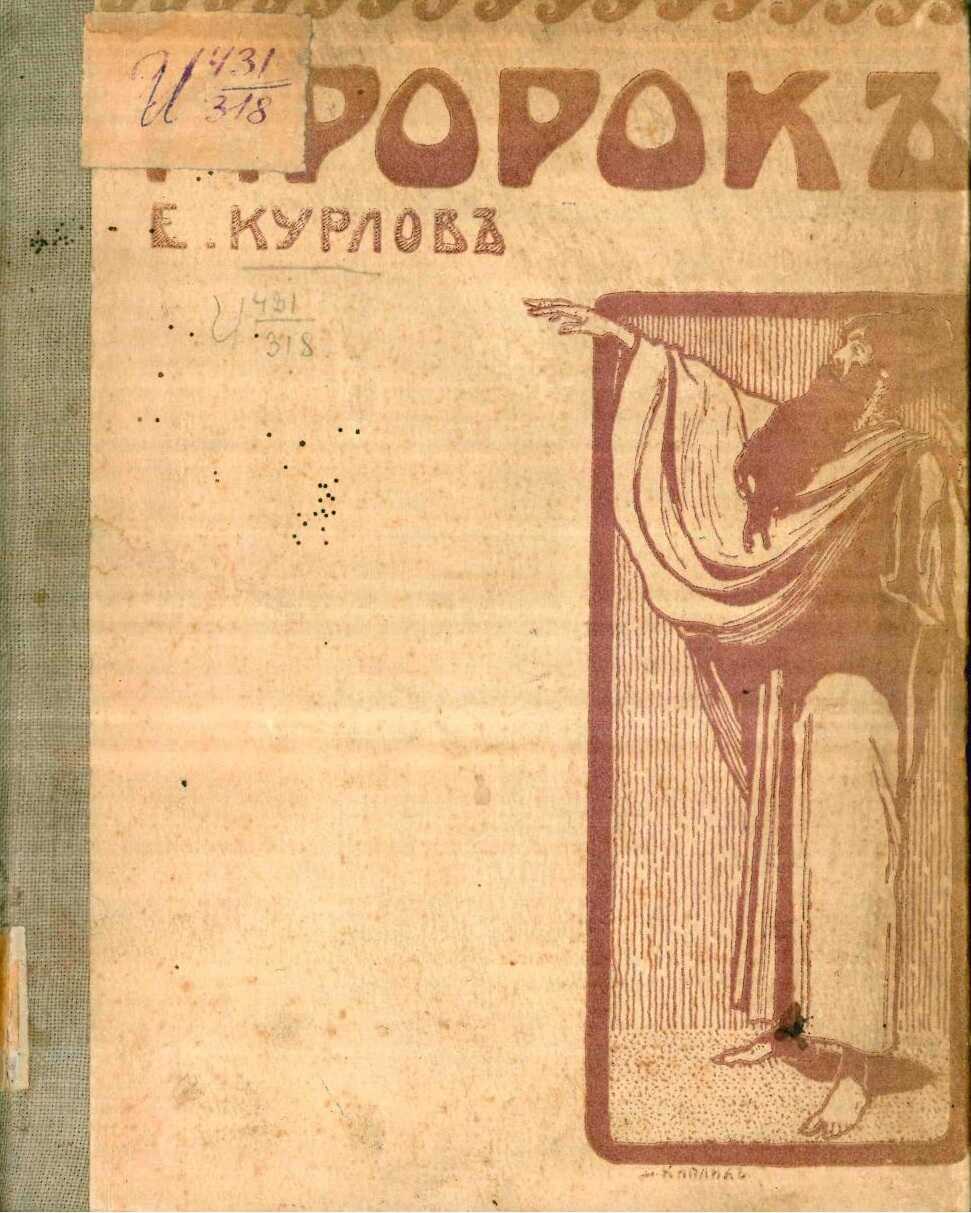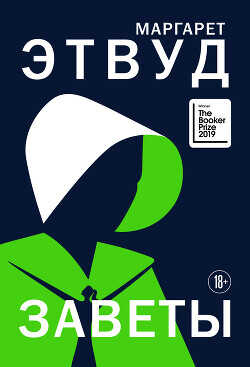рядом с горничной. Другого места не было: на козлы, рядом с Мишо-кучером, взобрались хозяйские сыновья. Хорошо, что Марек не успел позавтракать, иначе его стошнило бы от сталкивающихся ароматов двух сортов духов, которыми благоухали хозяйка и горничная. Спасения он искал в хозяине.
— Я должен поблагодарить вас, пан сенатор, — обратился он к Грайноге, когда коляска покатила к Нижним Шенкам по полевой дороге, пролегавшей между желтеющих хлебов.
— Гм… — заерзал на сидении Грайнога и затянулся сигарой. — Что я хотел сказать… Как там было дело, Манцика?
Горничная с упоением принялась давать свидетельские показания — выложила все, что знала о мягкости адъюнкта, в приливе каковой он прибавил поденщикам по шесть крон к недельной плате… Горничная тоже прочитала на столе у Марека то, что было адресовано совсем не ей!
— Мы еще простили бы вам, если б вы не сказали им, что дали из своих денег, — отчитывала Марека хозяйка.
Юноша съежился, как если бы его ударили по лицу, и, будто ждал новых ударов, молча уставился в дно коляски.
— Вы хороший работник, пан Габджа, и мы любим вас, но… этого вы не должны были делать. Это причинит мне ущерб в политическом отношении, — причем именно в тех деревнях, которые для меня важнее всего. «Звездачи» запрыгают от радости… Да, в области политики заработной платы вы еще незрелы… Вы куда лучше выступаете в роли ветеринара. Ведь для этих людей дело вовсе не в лишней кроне — крона только предлог. Они хотят испортить отношения между работодателями и рабочими, искусственно вызвать недовольство, хотят лить воду на мельницу «звездачей»…
Марек вздохнул. Не может он спокойно слушать ложь, даже из уст сенатора!
— Прошу, закуривайте! — предложил сенатор. — Я сам внес проект в Объединение землевладельцев и нанимателей о небольшом повышении поденной платы, но мой проект забаллотировали. Привели подсчеты, основанные главным образом на установившихся ценах на сахарную свеклу, и убедили меня, что и нынешняя плата даже велика. А теперь взъелись на меня за то, что произошло в «Тюльпане». Вы поймите, мне не жалко нескольких лишних сотен крон, — я вам возмещу то, что вы им выплатили, — но тут дело в общем порядке…
Коляска влетела на улицу Нижних Шенков. Марек молчал. Наблюдал за своим «благодетелем», за милостивой пани, которая доверчиво приникла к своему мудрому супругу. Лишь время от времени она спохватывалась, прикрикивала на своих сыновей, ссорившихся на козлах. Пока ехали полем, вожжи держал младший, теперь править лошадьми пожелал старший; Грайнога сам разрешил спор, велев Мишо-кучеру взять вожжи. Улица Нижних Шенков ухабиста — владелец «Тюльпана» вовсе не желает очутиться со всем семейством в канаве.
— А коммунизм надо истребить, это мерзкое учение, оно направлено на порабощение народа… Потише, Мишо, нам не к спеху! — приказал он кучеру: пусть у жителей Нижних Шенков будет время приветствовать пана сенатора, а у пана сенатора — время снимать шляпу и милостиво улыбаться народу.
— Не знаю, удастся ли это, — возразил адъюнкт, который не в состоянии был представить себе более тяжкого порабощения, чем то, которое порождено «Тюльпаном» и ему подобными институтами. — Сказано, что без воли божией даже волос с головы не упадет. Отсюда неизбежен вывод, что и коммунизм как учение — от бога; а следовательно, его нельзя истребить.
Грайнога так всполошился, что забыл приподнять шляпу в ответ на приветствие группы крестьян, идущих в костел, и в глубоком изумлении воззрился на своего подчиненного.
— Я где-то уже слышал это… Скажите на милость, в какой дурацкой книге вы это вычитали?
Глаза хозяина колючками впились в лицо Марека.
— В Деяниях апостолов, — ответил тот, покраснев оттого, что должен был аргументировать ссылками на Священное писание. — Старый Гамалиил[88], кажется, именно так выразился по поводу христианства…
— Но, простите, христианское учение и коммунизм — далеко не одно и то же! Это — ночь и день. Это… жаль, не время сейчас дискутировать… Послушай, Илона, — обратился он к жене, — давай пригласим пана Габджу к обеду. Что скажешь?
— Мы будем рады, — слащавым голоском пропела мадам и прижалась к мужу, заранее предвкушая, как они отделают строптивого мальчишку-адъюнкта.
— О, это мне следует радоваться, — принужденно улыбнулся Марек, скрывая недовольство.
— Там и потолкуем, — обещал Грайнога, отбрасывая окурок. — Люблю порассуждать с людьми, которые разбираются в Священном писании… Мишо, здесь останови, — крикнул он кучеру.
Благородные господа вылезли из коляски и с достоинством проследовали в храм под звон всех трех нижнешенчанских колоколов. Проследовали они, конечно, не через главный вход, предназначенный для простых смертных, а через ризницу. Проходя мимо алтаря, все семейство по очереди преклонило колени и осенило себя крестным знамением, затем взмостилось на боковую «господскую» скамью и поудобнее расселось на ней. В таком приятном положении оно внимательно прослушало проповедь старенького настоятеля и смиренно «высидело» мессу. Так, подкрепившись духовно на всю предстоящую неделю, господа вернулись в «Тюльпан», беседуя о прекрасных видах на урожай, о полях, чуть ли не прогибающихся под тяжестью колосьев, а сами мысленно облизывались, думая о вкусном обеде, который ждал их — людей, благословленных богом на земле, на небе и во всяком месте. Они просто купались в блаженстве, как стручки молодой фасоли в укропной подливке.
После званого обеда Марек Габджа оставался в хозяйской столовой до тех пор, пока не выкурил две гаваны, не выпил литр вина и не выслушал малодушно все сенаторовы воззрения и назидания. Его отпустили только тогда, когда он прибег наконец к последнему доводу: что у коров воспалится вымя, если он сейчас же не отправится на скотный двор. Без него доить нельзя, коровы настолько уже привыкли к его голосу, что просто не давали молока, пока не услышали его заклинания: «Ну-ка, ребята, за работу!» После этого тотчас зазвенели подойники — сначала высоко, резко — струйки молока ударяли по дну; затем глухо — о вспененную поверхность. Когда же и сепаратор замурлыкал огромной кошкой, махнул Марек рукой, взмолился беспомощно: «Ах, Волчиндол, Волчиндол, куда же ты прогнал меня?!» Закурил, чтоб не заснуть стоя. Выпуская дым изо рта, следил, как он вьется и поднимается клубами… будто тучи в летнюю грозу над Оленьими Склонами. И как только в голову пришло это сравнение — все силы разом вернулись к Мареку. После доения он улучил минутку, когда двор «Тюльпана» не осквернял своим присутствием никто из присных Матуша Грайноги, сел на хозяйский велосипед, предоставленный в полное его распоряжение, и стрелой помчался в Волчиндол.
Первым судьба послала ему навстречу Штефана Негреши. Марек вручил ему свое письмо.
— Вы знаете, кому отдать его, дедушка? — на всякий случай спросил Марек, снова садясь на велосипед.
Негреши не ответил, только чертыхнулся —


![Красное вино Победы[сборник 2022] - Евгений Иванович Носов](/uploads/posts/books/346516/346516.jpg)







![Кармилла [сборник] - Джозеф Шеридан Ле Фаню](/uploads/posts/books/421995/421995.jpg)