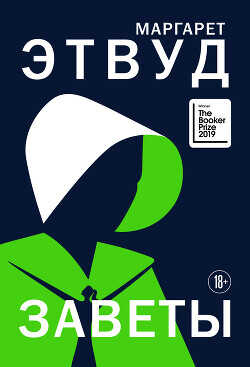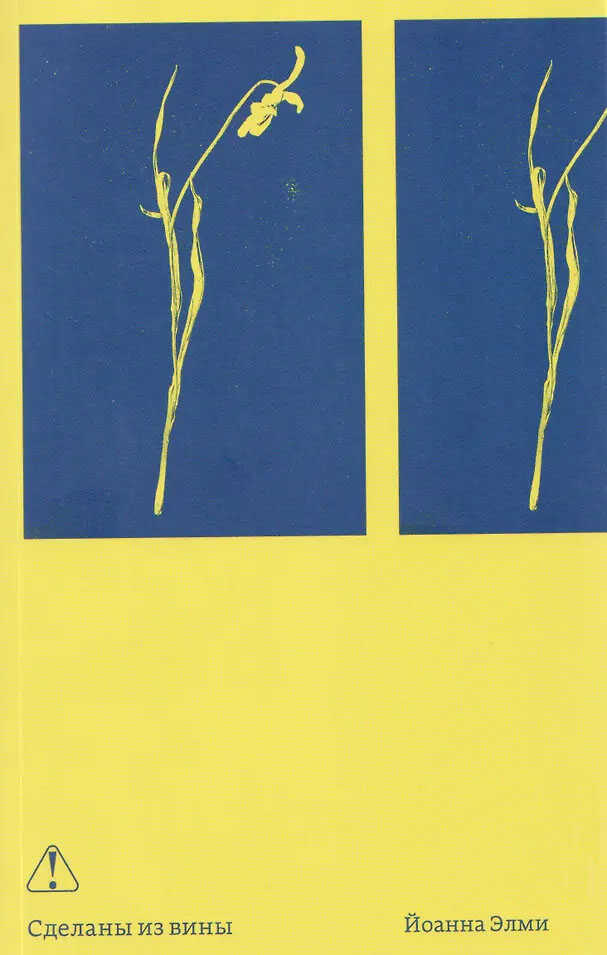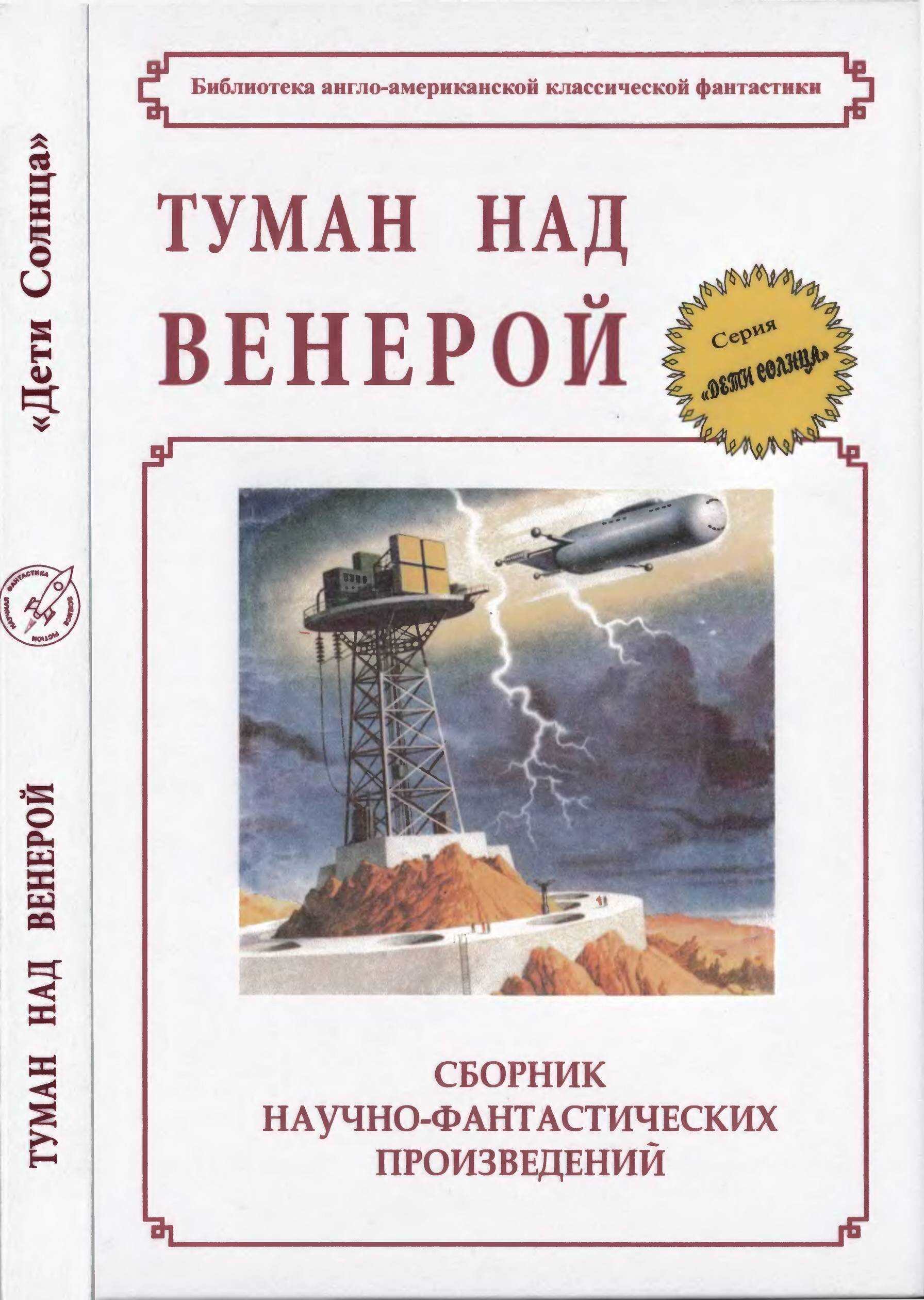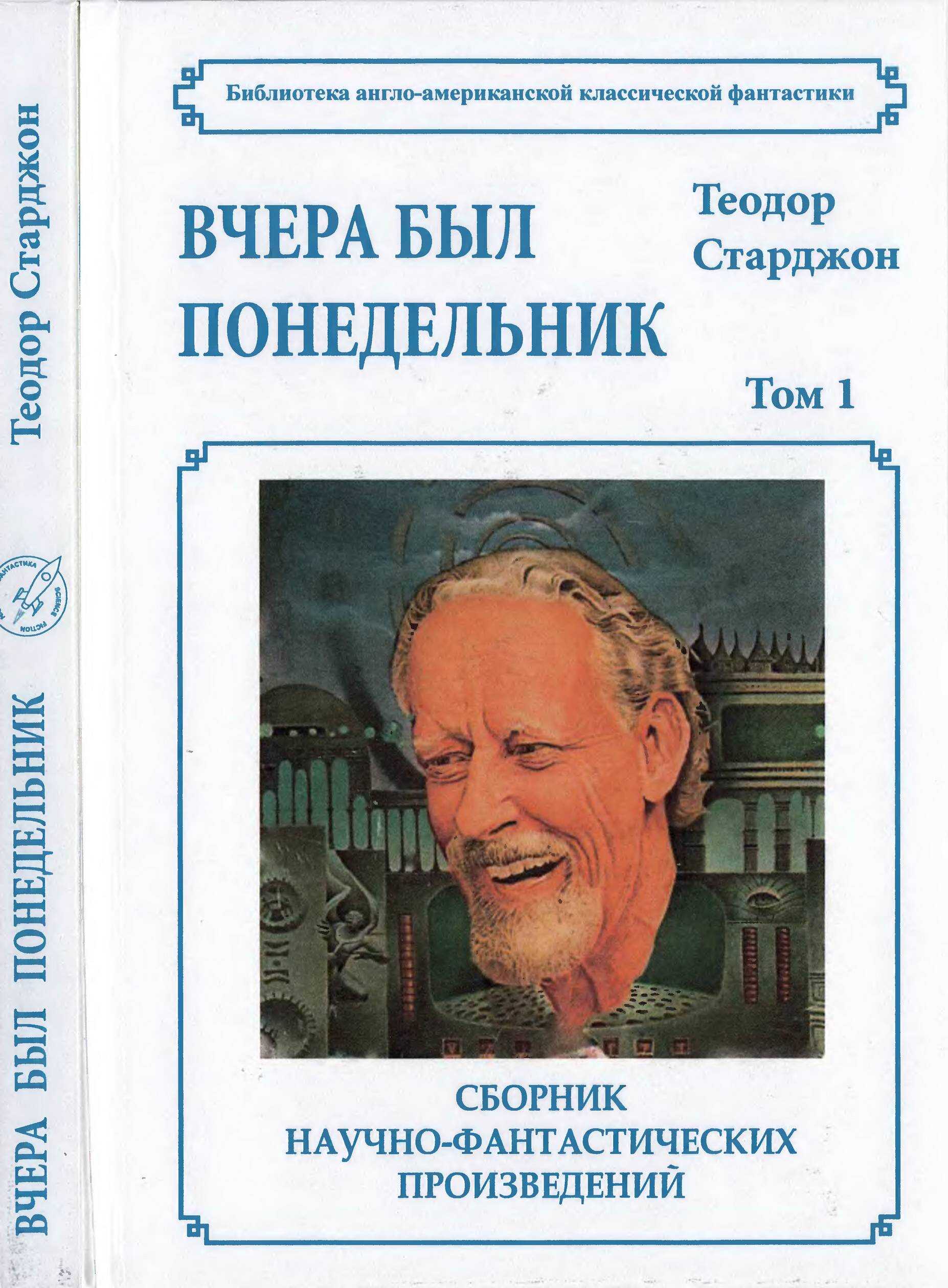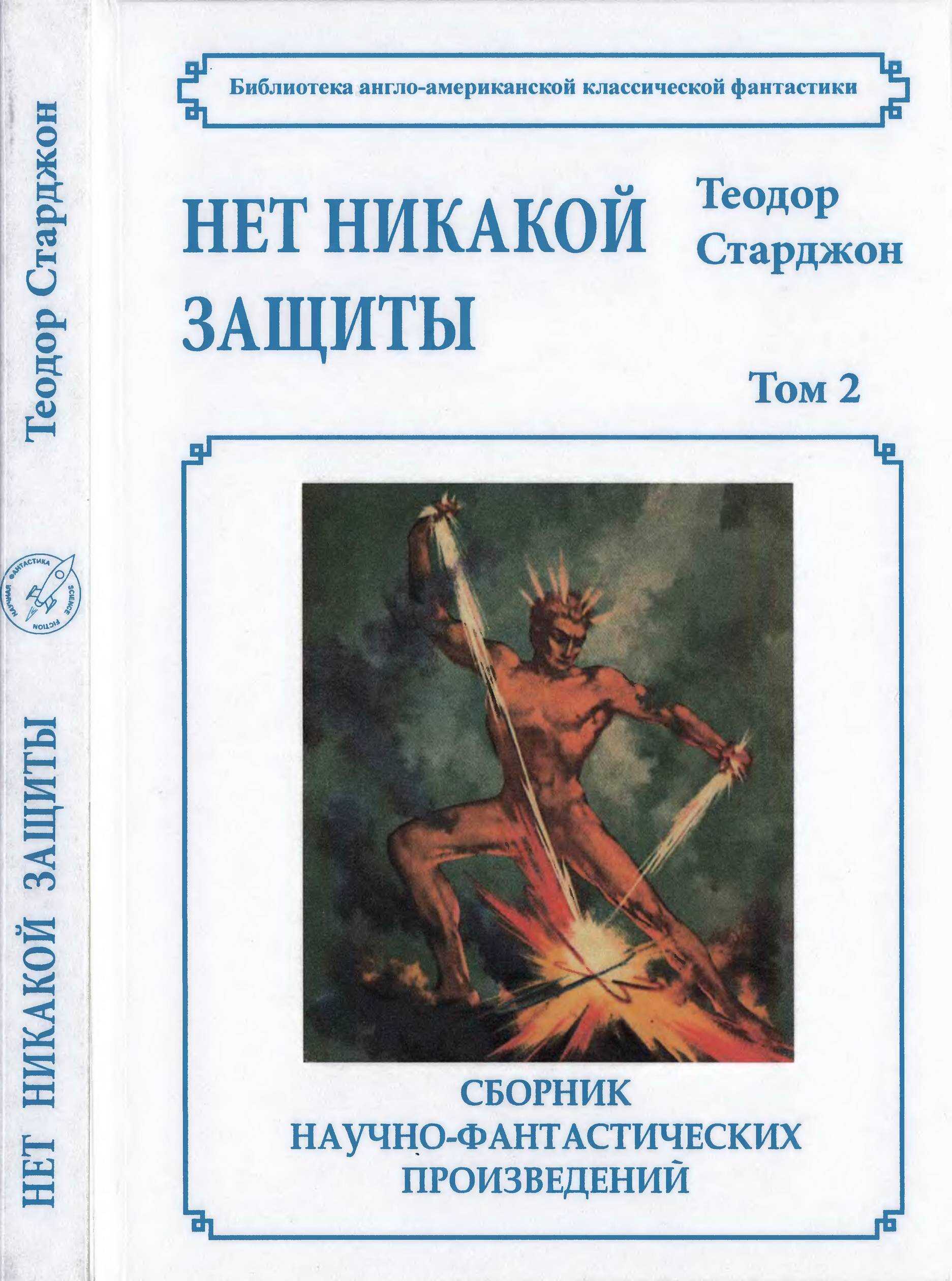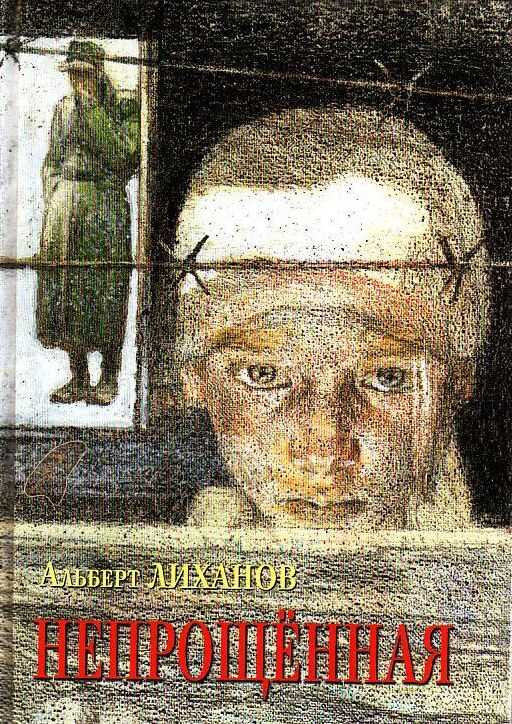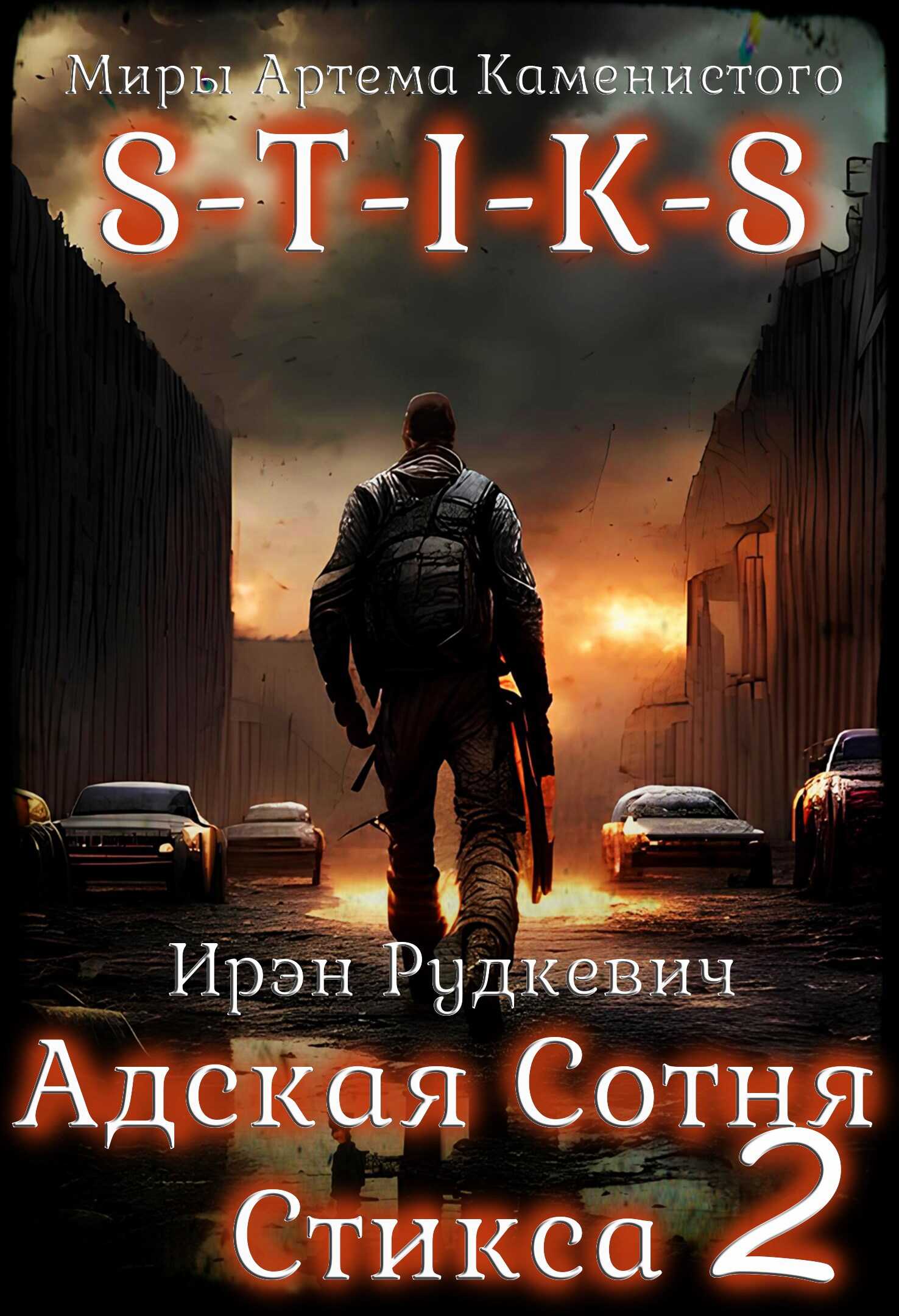сидят, как баре, а барин — за кучера! Что стряслось? Уж не революция ли? Ой, нет! Видно, свихнулся малость адъюнкт «Тюльпана». Сердце у него не на месте, вот и устраивает он бурю в стакане воды.
Нижние Шенки гостеприимно встретили адъюнкта «Тюльпана» и его свиту, расступились, дали место сплясать соло под навесом во дворе трактира. Однако Марек отказался, попросил разрешения станцевать обеим парам, что он привез с собой. Потом подозвал трактирщика, бросил ему пятисотенную бумажку — эти грязные деньги, эта хозяйская подачка жгла ему руки.
— Несите вина на все!
Выждав, когда цыганский оркестр доиграет, он сунул сотню в зубы премьеру.
— Играй на все!
Нет, не по душе была Мареку Габдже музыка смуглого скрипача. Он велел цыгану выпить вина, поднес и остальным музыкантам — таким же черным, с белыми оскаленными зубами. Но и после этого музыка не стала лучше… Все казалась Мареку слишком быстрой, а ему хотелось тягучей, чтоб за душу хватала… Нижнешенчанские парни поднесли ему чарку вина. Красного, как кровь.
У Марека заискрились глаза, он чокнулся с парнями и залпом выпил кровавый сок. Ему налили вторую чарку, парни тесно обступили его и третью поднесли. С тех самых пор, как он два месяца тому назад уплатил поденщикам из своих денег, деревня Нижние Шенки, отравленная лучами «красной звезды», готова была на руках его носить. В этой бедняцкой деревушке у Марека Габджи репутация куда лучше, чем у его почтенного хозяина, будущего сенатора от партии клеверного листка. Потому-то в трудную минуту и пришел Марек именно сюда — не столько праздника ради, сколько для того, чтобы вернуть себе душевное равновесие.
Марек взял у цыгана скрипку; вскоре и остальные скрипки и цимбалы подладились к протяжной мелодии и стали тихонько подыгрывать; тогда Марек, не переставая играть, затянул песню:
У тебя в душе измена,
а в глазах красивых — ложь…
Тут он заметил в группке девушек Геленку, повязанную своим желто-красным турецким платочком. Трудно было продолжать Мареку петь под ее взглядом — он отвернулся.
Ты вчера меня ласкала,
а теперь не узна…
Последний слог застрял у него в горле, голос оборвался, смычок сам отскочил от струн: потому что, когда Марек отвернулся от Геленки, он наткнулся на взгляд других глаз, сверкавших куда менее добро, зато гораздо ярче Геленкиных! Исступленной синевой сияли глаза девушки в подвенечном платье, с венком на голове; эта девушка протолкалась через круг парней и девчат и остановилась прямо перед Мареком.
Адъюнкт «Тюльпана» замер как громом пораженный. Перед ним стояло его Горе с Оленьих Склонов — Люция Болебрухова…
БЕГСТВО ОТ АЛТАРЯ
С тех пор как существо, носящее имя «человек», подняло голову на три локтя от земли и заняло руки свои более полезным делом, чем ползанье на четвереньках и выкапывание земляных нор, оно непрестанно стремится изменить мир. И в общем это ему удается: оно добивается того, что задумает, а что ему не нравится — уничтожает. Выдумал человек богов, чтоб было кого бояться, — а когда они одряхлели, стащил их с неба. Избрал владык, чтоб тиранили его и водили в бой, — а когда они его разгневали, сбросил их с трона. Высек на камне десять заповедей, чтоб подчинить себя строгому закону, — но когда эти заповеди стали стеснять его, разбил их кувалдой. И так он выдумывал, так трепетал перед новыми богами, и избирал себе новых тиранов, и высекал в камне новые заповеди — пока не преклонял коленей перед божеством еще более новым, не покорялся владыкам еще более могучим, не связывал себя заповедями еще более строгими. Эта борьба — старого с новым и нового с еще более новым, а более нового с наиновейшим — длится, не прекращаясь, пока текут часы и минуты — то есть тысячелетия и века, — и вечно веет ветер прогресса над поднятой головой человека.
Все на свете можно изменить, усовершенствовать, улучшить. Человек так и делает: меняет, улучшает, совершенствует, истекая кровью в войнах и пируя после побед. Одного не в силах он изменить, усовершенствовать, улучшить, — а именно самого великого, что есть в нем: любви! Стара она, обросла мохом, — а не ржавеет, не рассыпается трухой. Вечна и неизменна любовь. Была она в начале, будет и в конце; возникла с первым ударом человеческого сердца — и исчезнет с последним вздохом последнего человека. Острее меча любовь и сильнее смерти, которую она одолевает… простою ласковой улыбкой.
Ах, любовь… боже, любовь!..
Люди, постигнутые великой любовью, поднимаются к великим подвигам: повитое мглою — освещают, далекое — приближают, хрупкого — осторожно! — касаются с благоговейною нежностью, чтоб не сломалось в руках. Но временами, едва лишь малейшее подозрение встанет между любящими, — творят они много сумасбродств. Вот и Люция Болебрухова — такая же сумасбродка. Сто раз клялась не оставлять милого в беде, что бы ни грозило ей самой, — и изменила своей клятве тотчас, как только Марек Габджа позволил себе у часовни святого Венделина взглянуть с благодарностью на Аничку Бабинскую; а когда у часовни святого Урбана Марек от боли и гнева не смог поднять глаз на Люцию — гордая девушка и вовсе порвала все свои клятвы. Ради Марека она не поколебалась бы причинить отцу своему столько горя, что тот не увез бы и на телеге, — и все-таки этот отец, проклявший сына за то, что тот без его благословения повел к алтарю Магдалену Габджову и без его разрешения поселился с ней в домике бывшего виноградарского кооператива, — этот отец не разочаровался в дочери. Больно уязвленный своеволием сына, он тем более радовался тому, что может любить дочь. Радость была тем неожиданнее и сильнее, что Болебрух скорее от дочери ожидал того, что выкинул сын. Большой Сильвестр готов был достать для нее луну с неба — только бы Люция согласилась выйти замуж по его выбору; все небо принадлежало ему, богачу, весь небосклон помог бы он молодым засадить виноградом!
Первое время, тотчас после продажи габджовского дома, Люция еще ждала, что Марек — если он не влюбился в Аничку Бабинскую — придет как-нибудь воскресным майским днем под двадцать первый каштан, и тогда уж она выложит ему все, что накипело. Но он не только не появлялся — все три недели он вел себя так, будто уже помолвлен с Аничкой: вдвоем они возвращались из костела, увлеченно беседуя о чем-то, вдвоем копнили сено в Чертовой Пасти на старостовом лугу, а в день святого Урбана, когда новый зеленомисский священник нахально, — по выражению ее отца, — оглашал со ступенек


![Красное вино Победы[сборник 2022] - Евгений Иванович Носов](/uploads/posts/books/346516/346516.jpg)