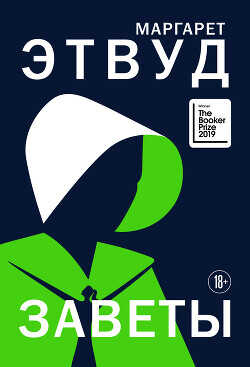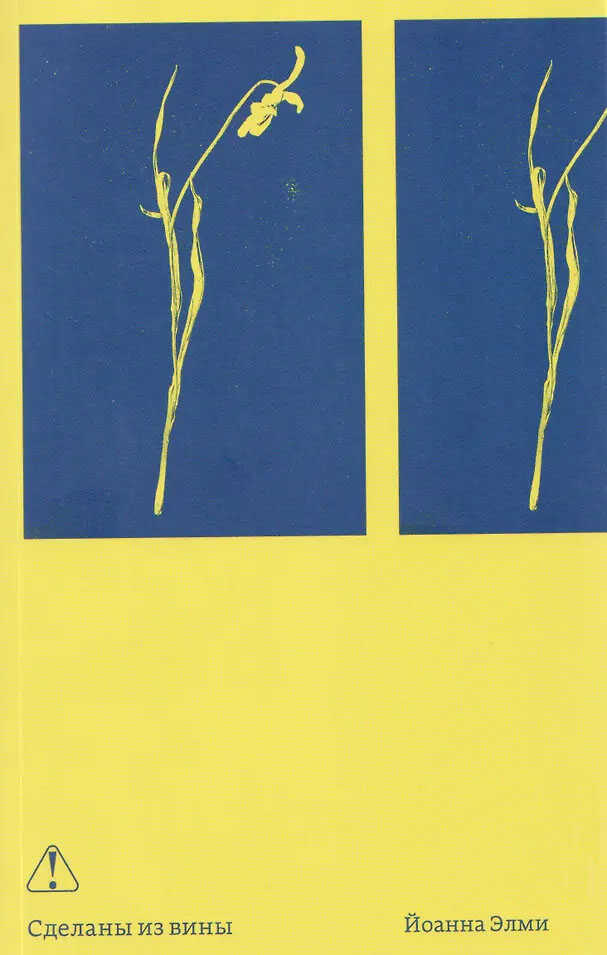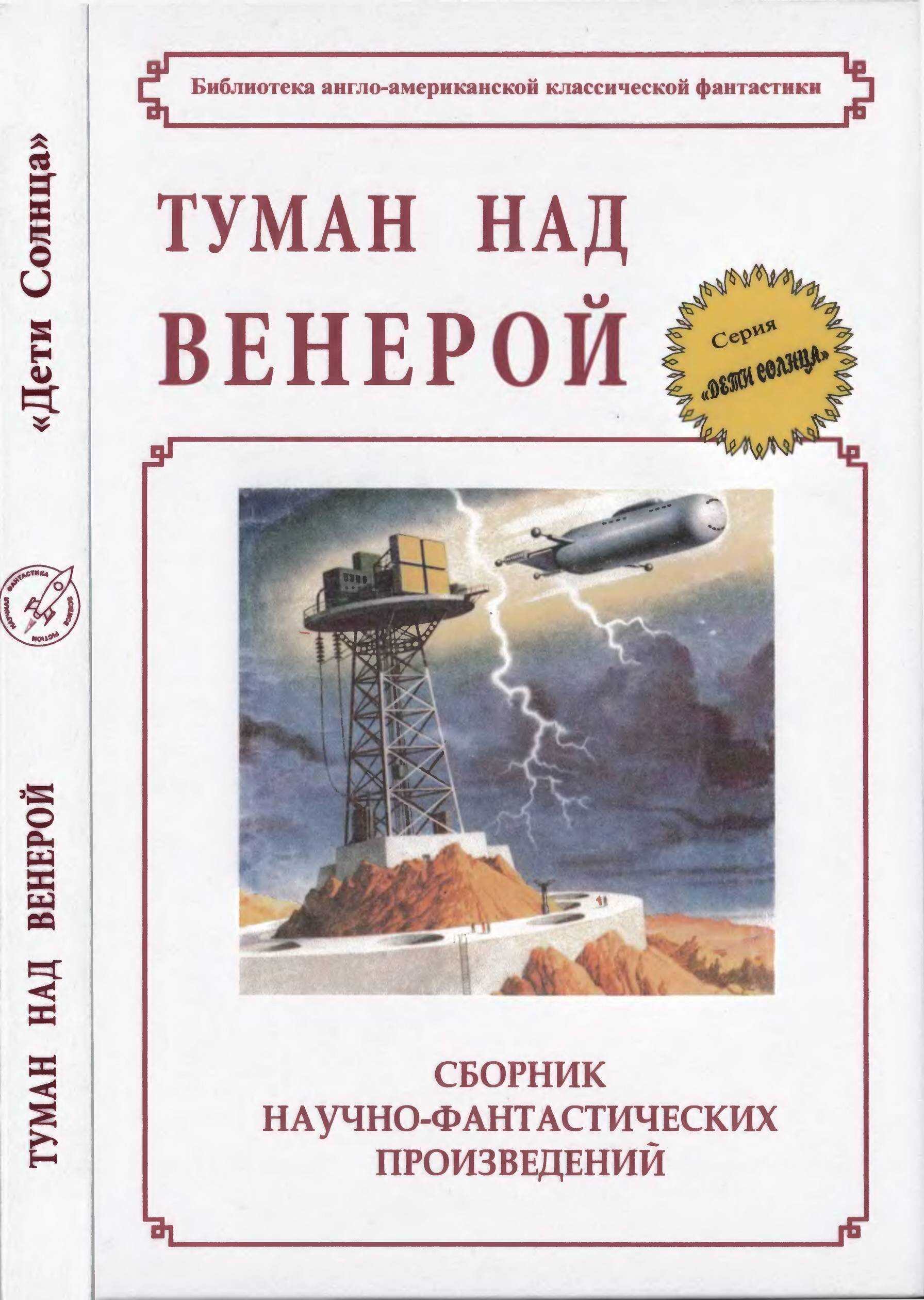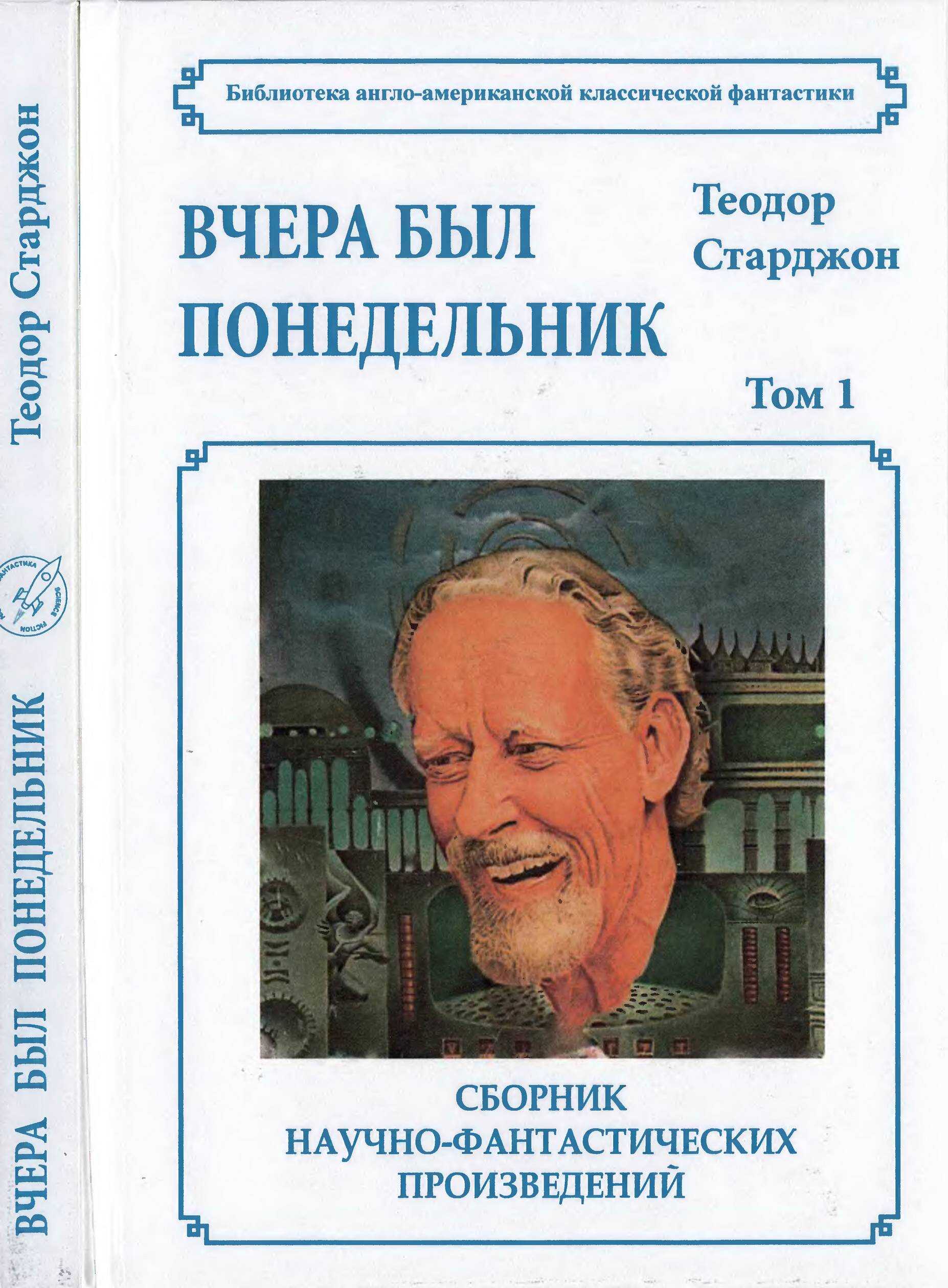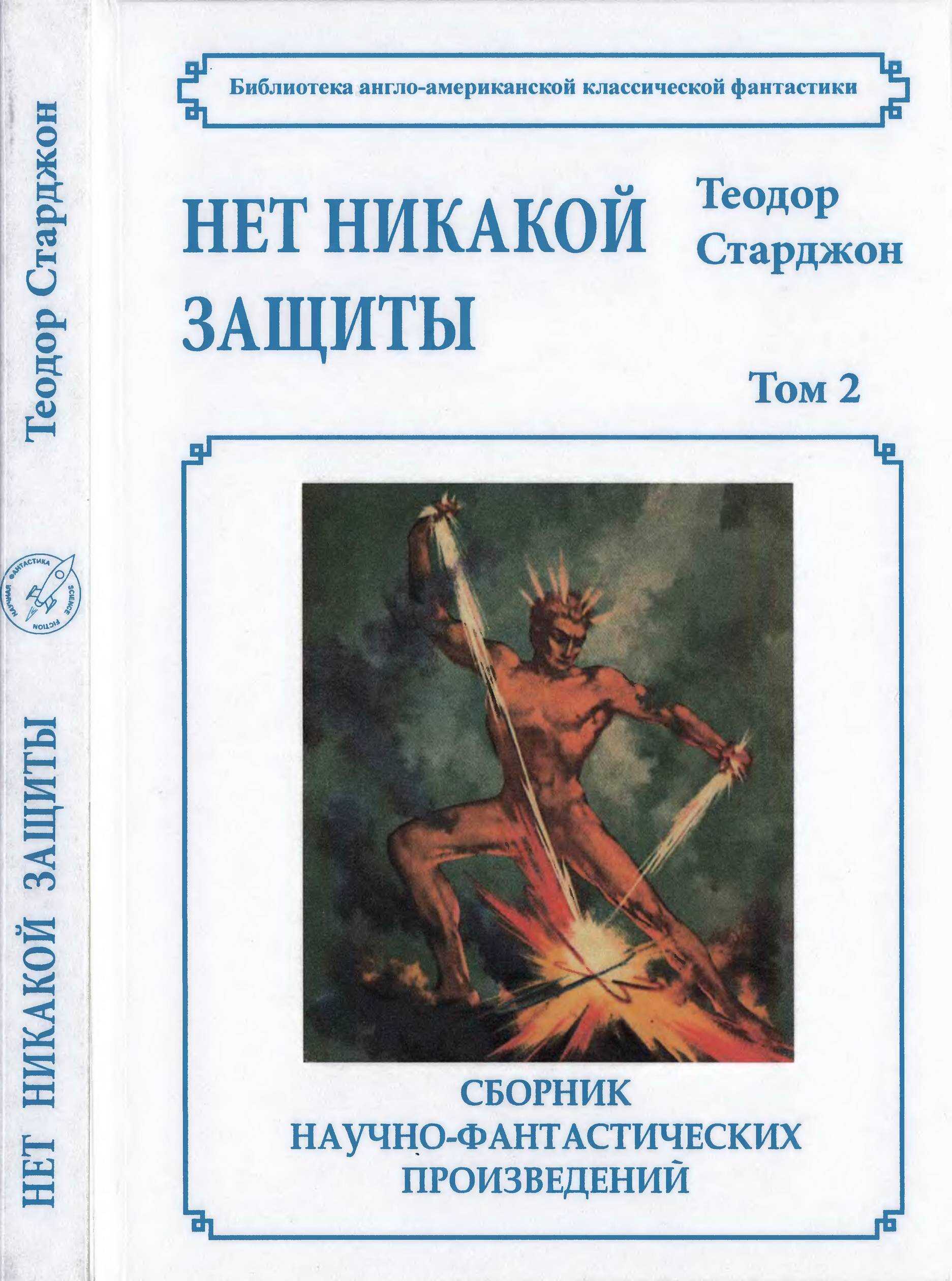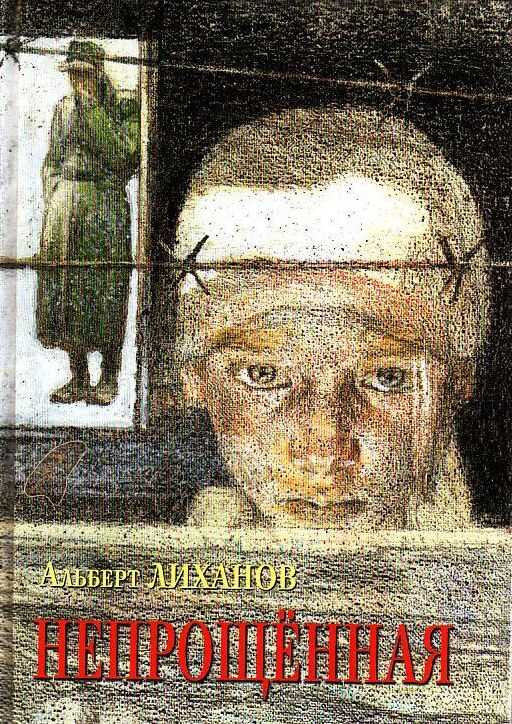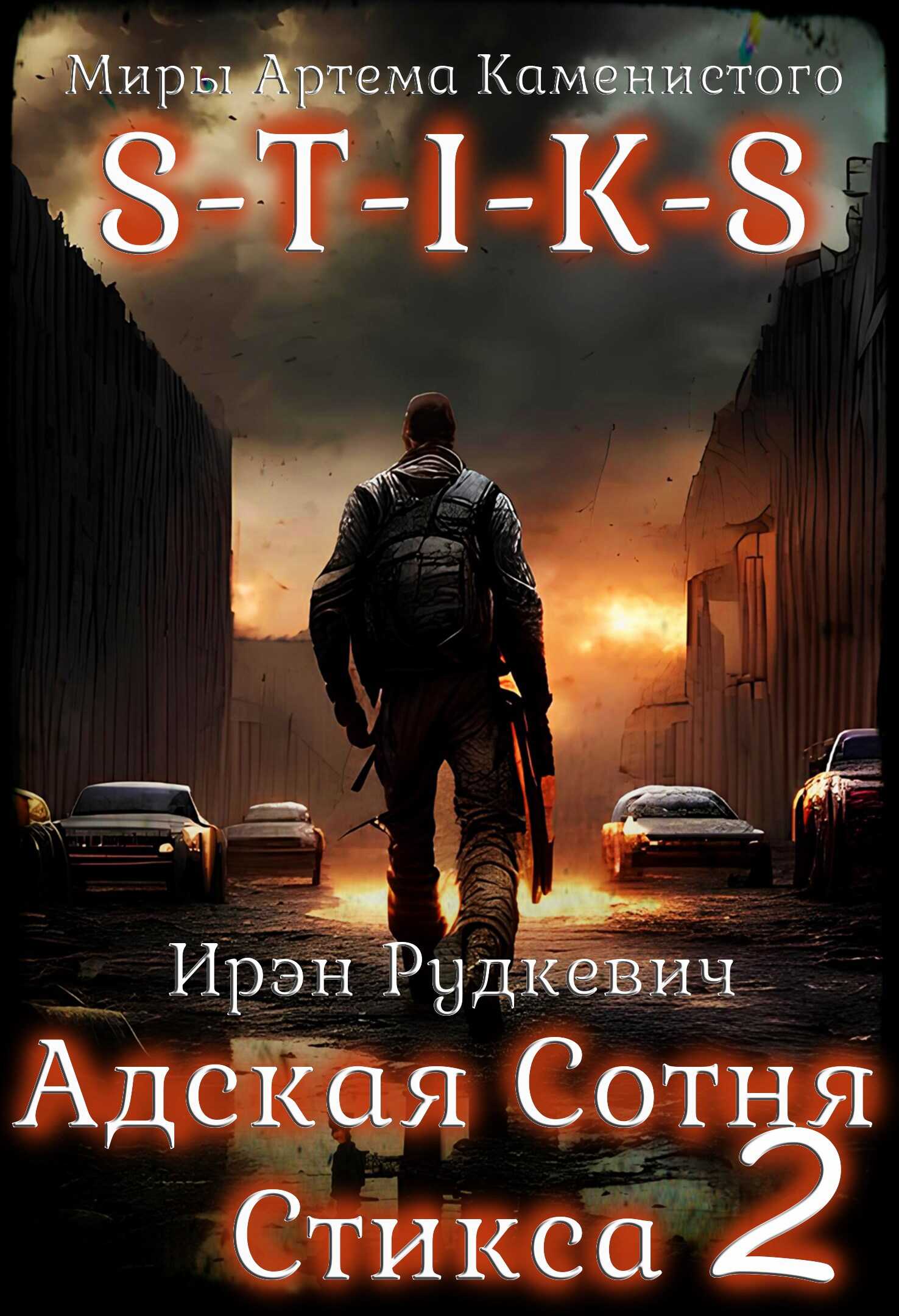прямо на тот свет. По щекам Большого Сильвестра текли слезы. И радовался он, что Люция послушалась — видно, ее упрямство не имело серьезных причин, — и дрожал: а что, если он и впрямь обрекает дочь на несчастье? Случись все это вчера, Люция добилась бы своего, но сегодня — поздно… Пора садиться в коляски и во всей пышности и славе скакать в Зеленую Мису. Впрочем, все девушки перед свадьбой вытворяют разные глупости… А со временем — если и вышли замуж не бог весть по какой любви — рады бывают, что покрыты бабьим чепцом…
В коляске рядом с Люцией — первый дружка, ее младший брат, семнадцатилетний Сильвестр; в коляску запряжены болебруховские вороные; ими правит работник, который уже так давно живет на Оленьих Склонах, что за это время успел поседеть. В коляске уместились бы и родители, и второй дружка с подружкой, но в последний момент Люция заупрямилась — никого не захотела сажать к себе, кроме брата и старого работника. Еще раз напоследок спрыгнула она на землю, бросилась обнимать отца, — да так обняла, что у него, старого любезника, сердце надрывалось. А по дороге, что ведет по-над Воловьими Хребтами, по глубокому срезу, заросшему терновником, даже поплакала Люция по отцу. Но едва лишь вороные жеребцы вынесли коляску на открытое место, велела невеста работнику:
— А ну, Штефан, гикни!
Работник обернулся, посмотрел на нее изумленно, улыбнулся — и закричал что-то радостное и удалое. Бараний Лоб ответил эхом, и тогда гиканье раздалось и с задних колясок, по очереди выскакивавших из-за откосов среза. Промчались через Чертову Пасть, прогремели по мосту над Паршивой речкой и дальше поскакали — через Гоштаки в Местечко, и не умолкало веселое гиканье — наоборот, чем больше зевак выбегало смотреть на свадебный поезд, тем пуще надрывались поезжане. Свадьба была богатая — на колясках гирлянды, гривы коней не видны под ворохом лент и цветов…
Коляска невесты остановилась прямо перед папертью. По очереди подкатывали остальные, вылезали свадебные гости; спрыгнул на землю Люцийкин брат — помочь сестре. Однако старый работник считал не только обязанностью своею, но и правом высаживать господ, — как бы с ними чего не стряслось, — и он протянул руки Люции. Невеста подала ему свадебный букет, а сама соскочила с другой стороны… И прежде чем кто-либо успел слово молвить, она вспорхнула на козлы и схватила вожжи и кнут. Жеребцы, почувствовав твердую руку, услышав свист кнута над ушами, взялись галопом, — так было всякий раз, когда их подчиняла себе распаленная гневом непреклонная воля Большого Сильвестра. Поднялись кони в галоп, помчали невесту вверх по Местечку…
Только миновав последние избы Зеленой Мисы, перевела Люция коней на рысь, оглянулась. И вся задрожала от жара, вспыхнувшего в груди: погони не было! Если б за ней гнались — довела бы вороных до бешенства, скакала бы от преследователей по полям, без дороги. Радость душила ее. «Милое имя, начинающееся буквой Л.!» Трижды произнесла она вслух это обращение из письма, которое носила на сердце. Именно оно, это обращение, дало ей силу повернуть коней к Углиску, оттуда — на Нижние Шенки… а там уже рукой подать до «Тюльпана»! Через Углиско промчалась быстрой рысью, оставляя за собой испуг: ведь Углиско знало не только вороных с Оленьих Склонов, оно знало и ее, Люцию Болебрухову, юную невесту!..
Пока коляска катилась по длинной и ровной дороге от Углиска до Нижних Шенков, Люция переживала трудные минуты. Ее вдруг охватило отчаяние, и понадобилось много сил, чтоб стряхнуть его. Счастье, что было при ней письмо с волшебным заклинанием: «Милое имя, начинающееся буквой Л.!» Только этой метлой вымела весь мусор из сердца. Упрямо вскинула голову Люция и приняла твердое решение: если только суждено ей будет ухватиться за руку, что писала письмо, то до смерти она эту руку не отпустит, какие бы ни ждали их беды!
Под эту страстную молитву взмыленные кони внесли невесту в Нижние Шенки, где гулянье было в разгаре: на улице толпы народа, кружилась карусель, играли три оркестра…
Половину деревни Люция проехала, глухая и слепая. Ей было безразлично, какое смятение в умах вызывает она — одна на козлах, в белом подвенечном наряде, с кнутом в руке! Счастье ее, что при виде украшенной гирляндами коляски и лошадей в цветах, при виде невесты на месте кучера, нижнешенчане столбенели, недоумевая, откуда все это взялось; они обретали дар речи только после того, как сумасбродная девушка проносилась мимо. Она не собиралась останавливаться здесь, но натянула вожжи у трактира, и жеребцы стали как вкопанные.
Здесь был конец Люцийкиному сумасбродству. Дорога ее вела дальше, но девушка остановилась при виде других коней и другой коляски перед трактиром: они ей знакомы. На них иногда проезжал через Зеленую Мису Матуш Грайнога, о котором поговаривали как о будущем сенаторе.
— Кого привезли? — строго спросила Люция одного из мужиков, стоявших возле коляски с чарками в руках; в этом человеке, лохматом, как медведь, она узнала кучера Грайноги.
— Пана адъюнкта из «Тюльпана», — отвечал лохматый, вытаращив глаза.
Многое перевидал на своем веку Вираг-конюх, но не встречал еще невест в роли кучеров.
— Приглядите за моими конями! — велела ему девица таким тоном, как будто была его хозяйкой; и сошла с коляски.
Придерживая рукой фату, она пошла, метя землю подолом подвенечного платья. Мужики и парни, толпившиеся во дворе трактира, расступались перед ней, как перед волшебным видением. Откуда она взялась? Здешний настоятель никогда никого не венчал в день гулянья! И где ее жених?
Пока пировавшие за столами приходили в себя от изумления, невеста уже прокладывала себе дорогу к навесу, где танцевали. Протолкавшись сквозь круг молодежи, она очутилась лицом к лицу с грустным скрипачом, который так печально пел:
Ты вчера меня ласкала,
а теперь не узна…
Тут певец заметил ее, осекся на полуслове, глотнул воздух и вытаращил глаза. Цыгане перестали играть, под навесом опустилась оторопелая тишина. Песня так задела девушку в подвенечном платье, что она подхватила последнее, повисшее в воздухе, недосказанное слово:
— Узнаю, Марек! Узнаю! — воскликнула она.
Марек Габджа не видал еще такой исступленной сини в глазах Люции. Чем дольше, чем глубже вглядывался он в них, тем меньше замечал он белое платье и венок на ее голове. Совсем одуревший, он сделал к ней шаг, она к нему — другой. Страшное напряжение царило под навесом — слышно было, как дышит нижнешенчанская молодежь. Оба сделали еще по шагу, и Люция ухватилась за руку, которую решила никогда больше не отпускать. Она взяла у Марека скрипку, передала музыканту. Марек был потрясен:


![Красное вино Победы[сборник 2022] - Евгений Иванович Носов](/uploads/posts/books/346516/346516.jpg)