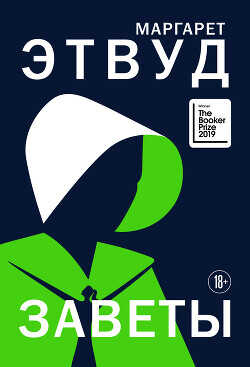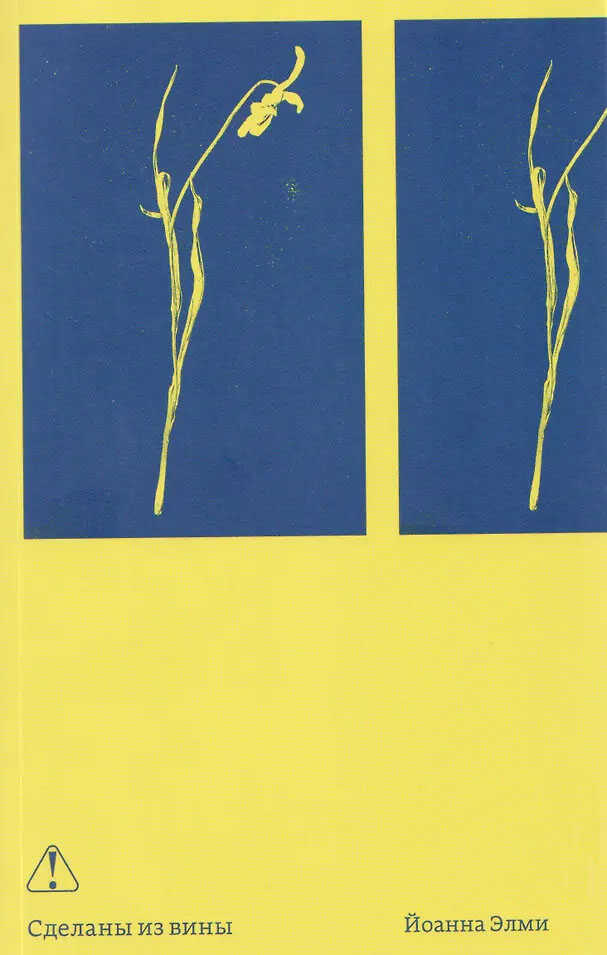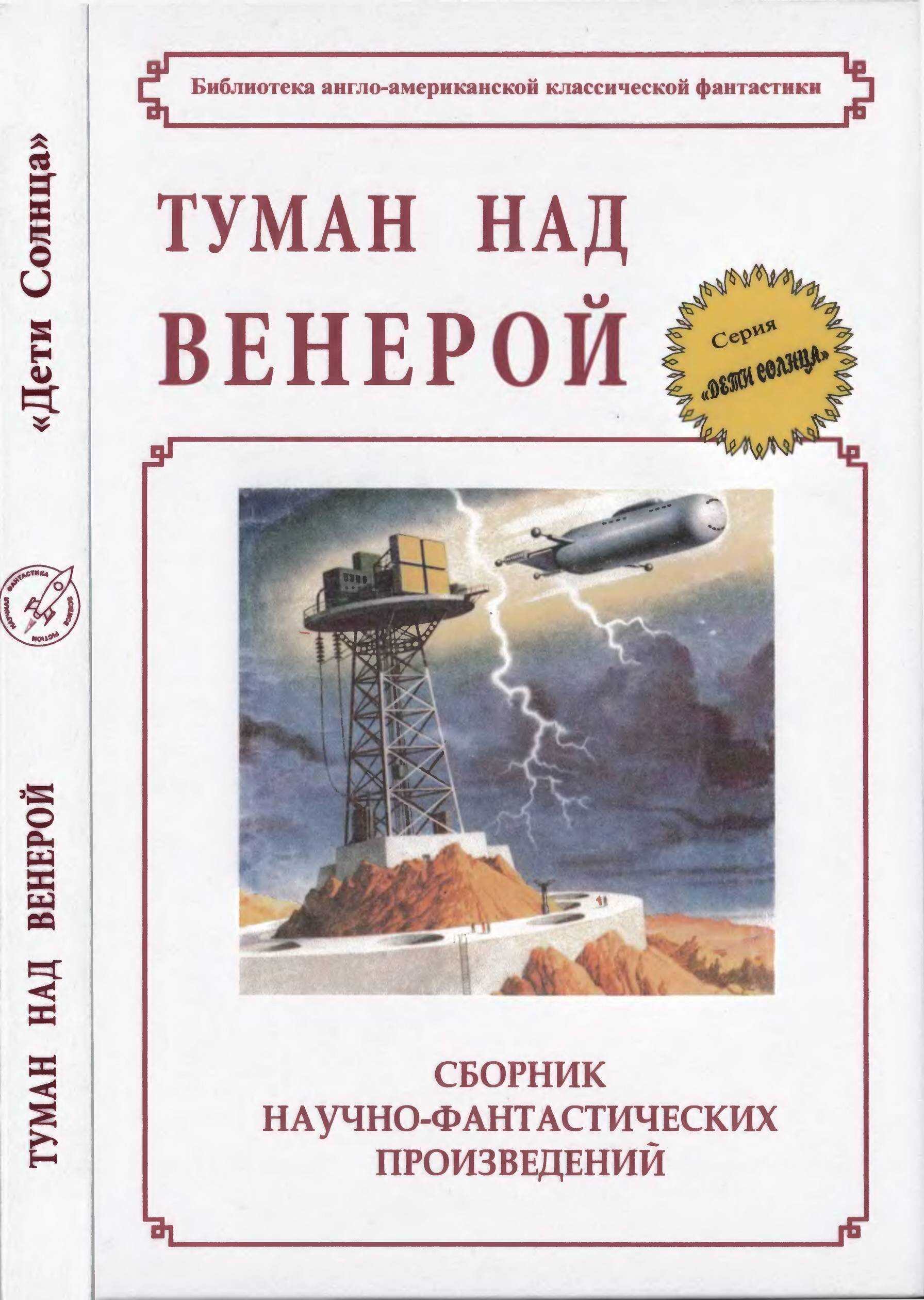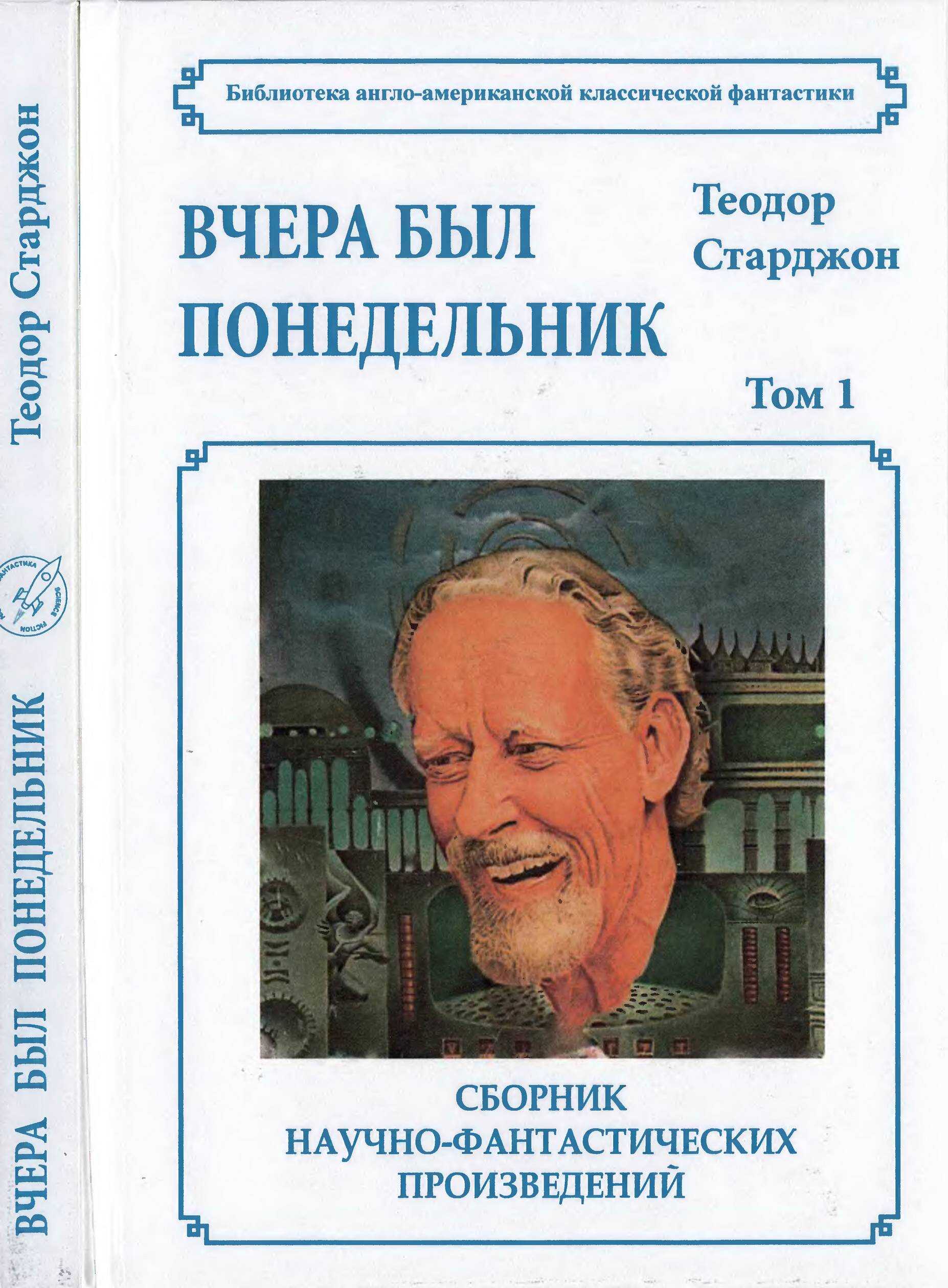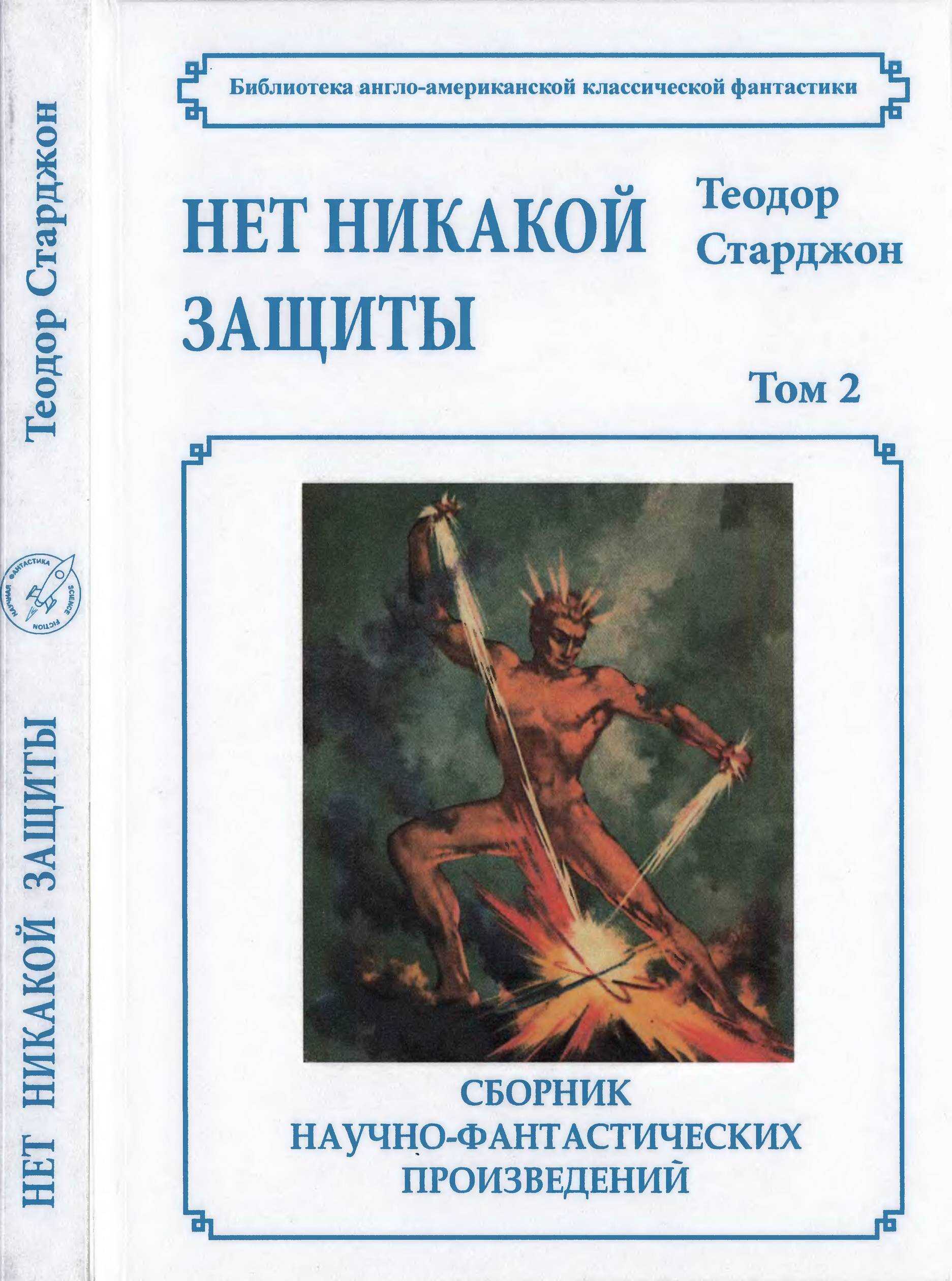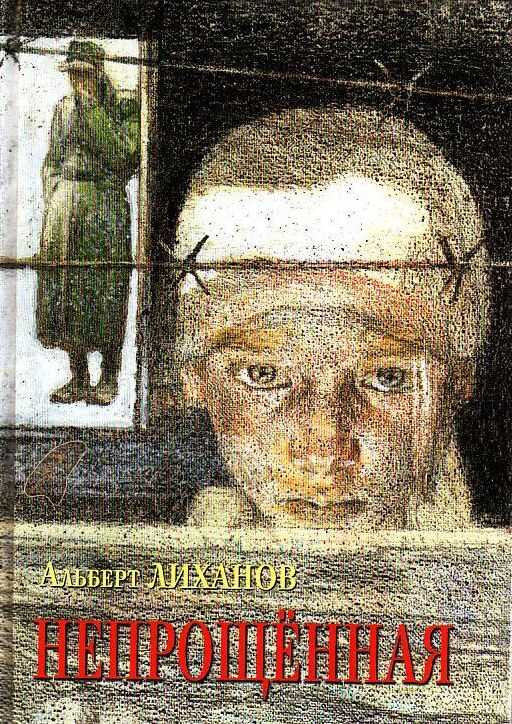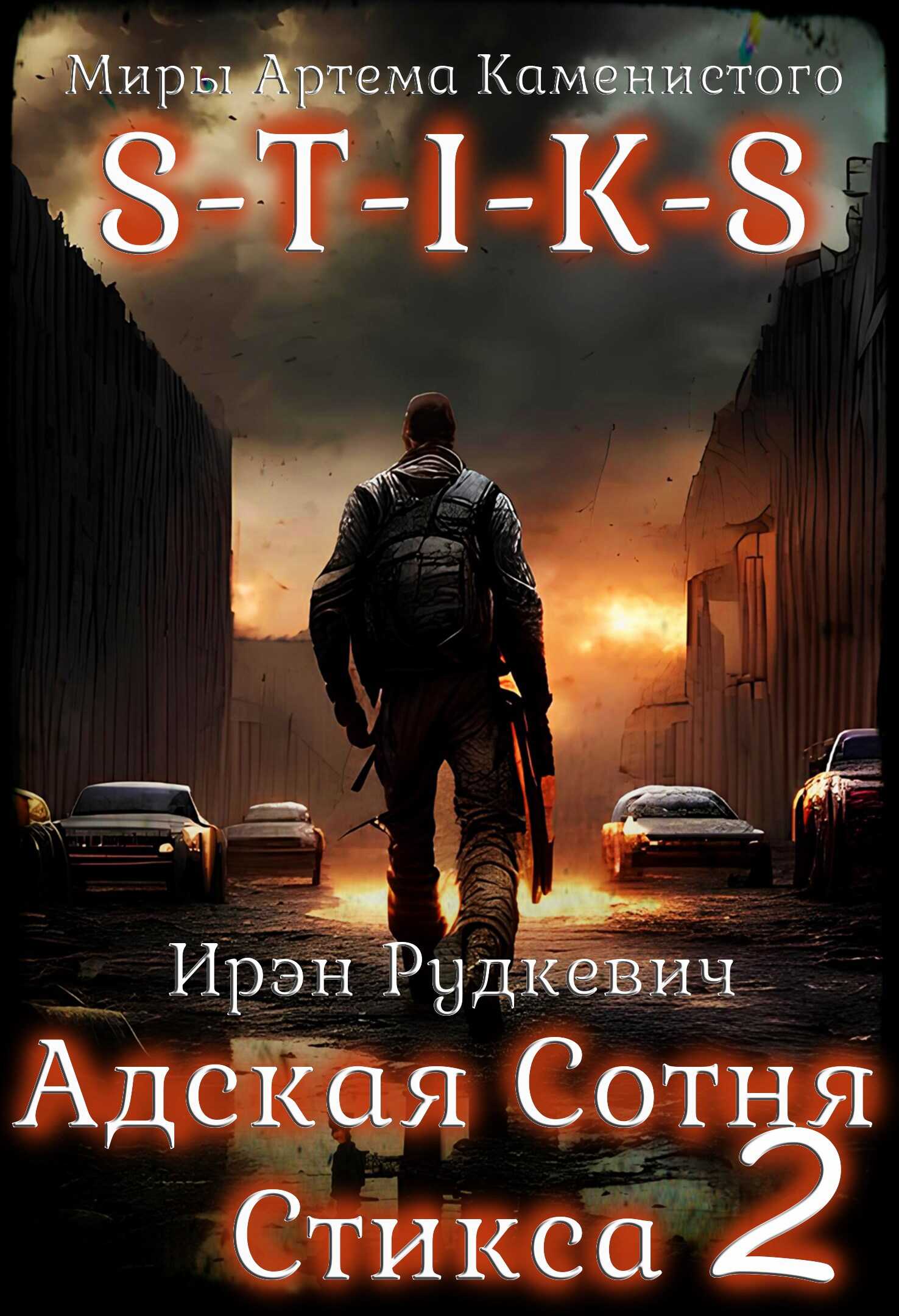о чем думает сенатор, — Марек только не знал еще, в какой форме он выскажется. Лицо Грайноги было сизо-багровым и свидетельствовало о том, что господа «Тюльпана» получили от горничной и от служанки пространную информацию о поведении адъюнкта. Именно поэтому Марек не видел причин опускать глаза и с виноватым видом смотреть в землю. Во-первых, это ему не помогло бы, а во-вторых, грех, совершенный им, был особого рода: должен бы к земле его пригнуть, — а он еще и спину ему выпрямил!
— Работаете вы добросовестно, пан адъюнкт, — начал с похвал Грайнога и сделал паузу. — Но ведете себя, как мужлан! — бросил он юноше в глаза. — Моя жена, как только узнала, что вы тут вытворяли, слегла с сердечным припадком, — уныло добавил он. — Лежит теперь больная… И жалеет, что я вообще принял вас на работу.
Марек ждал более тяжких попреков и приготовил соответственно более резкую отповедь. Такую, после которой можно было бы немедленно уйти из «Тюльпана». Теперь же он только усмехнулся, постарался утешить хозяина:
— Ничего, пан сенатор, милостивая пани поправится. О, она скоро поднимется на ноги. Будет у нее другой адъюнкт, не такой мужлан, и куда более нравственный… Ей он больше понравится, чем я, потому что его главным занятием будет — смиренно молить бога, чтоб тот дал ему силы как можно грубее и оскорбительнее ругать батраков. Что он еще сделает во славу «Тюльпана», я предсказать не в состоянии, — не знаю, доверите ли вы и ему ключи от амбара, как доверили их мне, несмотря на горький опыт с моим предшественником-управляющим. И лишь через месяц после его ухода милостивая пани узнает, кто из девок в «Тюльпане»… в положении!
Грайнога встал, пожал плечами, протянул Мареку сложенную бумажку.
— Вы мне нравились, пан Габджа, хотя во время забастовки вы, как мне стало известно, вели себя не совсем порядочно… Но, несмотря на это, я готов был и в дальнейшем сотрудничать с вами. Однако ради мира в семье я вынужден с пятнадцатого числа… освободить вас.
— Понимаю ваше затруднительное положение, пан Грайнога, — с притворным сочувствием отозвался Марек и подал помещику свое, вчера написанное заявление. — Я предвидел то, что вы сделаете в интересах супружеского согласия… А бастовать следовало и мне вместе с батраками.
— Лично я сожалею, — извиняющимся тоном проговорил помещик.
— Не утруждайте себя сожалениями, пан сенатор, — усмехнулся Марек. — Мое положение тоже изменилось. Увольнение пришлось мне очень кстати, так как мне предлагают место помощника учителя… Не хотите ли просмотреть мой отчет, который вы вчера отказались выслушать?
— Что ж, давайте, — пожал плечами Грайнога и сел за стол, причем у Марека сложилось впечатление, что дела экономии не шибко интересуют сенатора. — Только сначала расскажите мне, что вы тут, собственно, натворили? Говорят, вы приводили какую-то… потаскушку?..
Марек побледнел, волчьим взглядом смерил хозяина, едва удержался, чтоб не ударить его по лицу.
— Я считал вас порядочным человеком, — прохрипел юноша, подходя к двери. — Все же, надеюсь, вы сейчас же отдадите распоряжение заложить для меня экипаж, чтоб я мог покинуть «Тюльпан» тем же путем, каким и прибыл…
— С большим удовольствием, — подавляя гнев, ответил Грайнога. — Мне «звездачи» не нужны.
— Ой, нужны, господин помещик! — воскликнул Марек. — Без них вы и шагу не сделаете, и они все равно тут останутся — скотники да свинари!
Грайнога пулей вылетел из конторы. Через полчаса вышел и Марек Габджа с чемоданчиком в руке.
КРАСНОЕ ВИНО
С каждым днем все больше сморщивается, сереет, набрякает гневом лицо Большого Сильвестра. Этот гордый и суровый человек подобен бочке в углу погреба, у которой озорные хозяйские дети вытащили затычку: вся любовь — красное вино — с шипением вытекла наземь, и пустое нутро, отзываясь зловещим гулом, зарастает ядовитой зеленой плесенью. Возникает опасность — если эту бочку, самую большую в Волчиндоле, не выкатить на свет божий, не пропарить кипятком, не окурить двойной порцией серы, то уже нельзя будет больше использовать ее для дела, которому должна служить всякая порядочная бочка.
Сильвестр Болебрух находится в таком состоянии, в каком богачи, подобные ему, лезут на стену. Все ему кажется — едва он хоть чуть протрезвится, — что страдания его превышают всякую меру адских мук. Пока он гневался только на негодника сына, он мог сравнивать себя с душою в чистилище: страдал, но еще без зубовного скрежета. Теперь же, когда он выронил из сердца бесстыдницу дочь, Сильвестр превратился в сущего дьявола: до беснования дошел. Был бы королем — весь дом свой велел бы обтянуть черным сукном. Жена, дети, работники не смеют показываться ему на глаза. Одного человека терпит он при себе — Иноцента Громпутну, достойного преемника Шимона Панчухи. Но, накачавшись вином, и его прогоняет Сильвестр, чтоб потом, протрезвившись, снова слать за ним. Если бы дочь похитил дракон и терзал бы несчастную в своем логове — Сильвестр, не дрогнув, сразился бы с ним. О, все двенадцать голов обрубил бы мотыгой! Но то, что стряслось с ним, — гораздо хуже: дочь, обещанная жениху, который снискал его расположение, бежала от порога храма… к этому мальчишке! Не доставила отцу даже счастья взять дубину и на ее глазах проломить ему череп!
Сильвестр перестал ходить в костел. Боялся: если при нем сделают оглашение об обручении его дочери — не удержится, стащит с кафедры священника… Вместо этого Сильвестр пьянствует с Иноцентом Громпутной, рвет на себе волосы, потом, придя в исступление, вышвыривает своего собутыльника. Но от всего этого ему не легче. Однажды запрыгало сердце в опустошенной груди — во двор входили вороные жеребцы, старый работник сидел на козлах коляски… Сильвестр рванулся к ним, пробежал шагов десять — встречать ту, которую бы… отхлестать ремнем по голому телу…
Коляска была пустая.
— Хозяин! — окликнул его работник, поседевший на Оленьих Склонах. — Люция посылает вам коней, коляску и очень просит не сердиться на нее.
— Вон со двора! — дико взревел Сильвестр. — Не желаю видеть ни коней, что везли ее, ни коляски, в которой она сидела, ни тебя, разбойник, распятый ошую Христа!
Сильвестр обхватил ствол шелковицы — будто боялся, что вихрь злобы подхватит, унесет его; работник выпряг коней, завел их в конюшню. Увидев, что его не послушались, хозяин посерел в лице, неверными шагами подошел к коляске, оплевал ее и вырвал из держалки кнут. Хлестнул сначала работника — тот выскочил из конюшни. И принялся за вороных… со зверским лицом, с глазами, вылезшими из орбит, в бешенстве закусив бескровные губы, он охаживал кнутом коней и страшно ругался. Жеребцы метались, били копытами по столбам, по дощатым перегородкам… А дьяволу было мало того,


![Красное вино Победы[сборник 2022] - Евгений Иванович Носов](/uploads/posts/books/346516/346516.jpg)