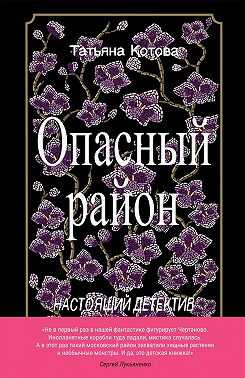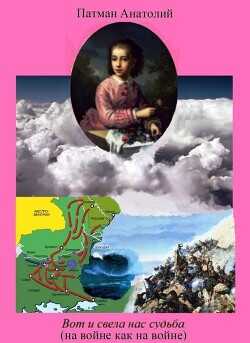как подошва из бычьей кожи, но все же дерзость незадачливого слуги божьего задела даже его дубленую душу, — тем более что еще в тот же вечер капеллан заявился в его заведение и стал спорить с мужиками, честить его вина и распевать песни с зеленомисскими парнями.
Вообще же сия духовная особа была такова, что зеленомищане только рты разевали. Виданное ли дело! Детям в школе запретил обращаться к себе в третьем лице[17] и лизать себе руку, затевал спор с кем попало и добивался своего, не считаясь с тем, что людям нравится привычное, укоренившееся издавна. Довольно скоро выяснилось, что капеллан озабочен не больше и не меньше, как благополучием зеленомисских «ослов»!
Триединое зеленомисское начальство — нотариус, настоятель и староста — усмотрело в действиях капеллана сначала склонность к милосердию (против чего особых возражений не было), несколько позднее — потребность что-то делать, о чем-то заботиться и на что-то ворчать (что тоже еще было терпимо), но под конец, когда капеллан основал читательский кружок и кредитное товарищество, начальство поняло, что этот человек пользуется опасным влиянием, которое может приобрести вредные формы и нарушить общественное спокойствие и порядок (а это уж, знаете ли, чересчур!).
Это уж чересчур, а посему жандармы увели капеллана в Сливницу.
Ничего как будто не случилось.
Читательский кружок распустили, а книги сожгли, — кроме тех, которые взяли читать волчиндольские виноградари. Что было делать с кредитным товариществом? Пока зеленомисское начальство раздумывало, явился Томаш Сливницкий, погрузил на телегу несгораемый шкаф, несколько длинных бухгалтерских книг и несколько покороче — и увез все это в волчиндольскую общинную винодельню, которая уже не входила в сферу деятельности зеленомисских властей.
Как будто ничего не случилось…
Но вдруг в середине марта со стороны Святого Копчека нахлынул паводок. Глинобитные гоштачские домишки рухнули во вспененные воды Паршивой речки. Спасибо еще, успели вынести перины да одежду, спасти свиней и кур! К вечеру мутный поток унес все, что мог. В сады и огороды водой нанесло сучьев, болотной глины, скользкого ила. И вот, когда настроение было, как говорится, самым что ни на есть подходящим, кто-то — черт его видел, кажется, какой-то парень из Волчиндола, — брякнул:
— Это вам за капеллана!
В бедняцких Гоштаках многие вздрогнули и широко раскрыли глаза, — им сразу показалось, что тут есть доля истины. Гоштачане испокон веков были умнее, они больше знали и лучше умели жить миром, чем местечане. Зато они были беднее — нищая голота и сброд, а посему и не могли нигде применить свой ум, опытность и умение жить миром. Они сразу поняли, что капеллан с кем-то воюет и чего-то добивается, но и пальцем не шевельнули, когда его уводили. Они правильно рассудили, что вступаться за капеллана скорее подобало бы местечским богатеям. И вот вдруг во всеуслышание было заявлено, что виноваты они сами, что им теперь нести кару за капеллана!.. Но при чем же тут они, если выжили-то капеллана нотариус да настоятель со старостой? И за что же сразу наводнение? И гоштачане ворчали: если, мол, дело обстоит так, то невредно бы малость подержать под водой чертову троицу…
Обвиняемые защищались. Настоятель в проповеди заметил мимоходом, что пекло уготовано милостивым господом богом не только для непослушных и упрямых наставников (намек на капеллана), но и для самых убогих из людей, прозябающих во тьме суеверий (это он имел в виду гоштачан). Нотариус вызвал к себе кое-кого из них и напомнил, что пора платить налоги. А староста в роли корчмаря опротестовал два-три векселя гоштачских должников. Благодаря столь продуманным действиям обыватели, подпавшие было под вредное влияние, быстро протрезвились.
Этому способствовала и ироническая позиция богатеев из Местечка, считавших речи о капеллане чепухой, потому что сами они пока ничего не потеряли, а гоштачанам от всей души желали… всего наихудшего…
Но что было дальше!
В конце июня, когда уже началась жатва и Зеленая Миса лопалась и трескалась от жары, когда зной как бы стал осязаемым и струился в воздухе, — вспыхнул пожар. За три часа он пожрал все зажиточное Местечко. Только костел с домом настоятеля, сельская управа с квартирой нотариуса да корчма Жадного Вола — только эти три здания чудом избежали огненных языков и сохранили девственную неприкосновенность. Девяносто пять домов сгорело дотла. Наводнение в Гоштаках пощадило немало домов, лишь покосив некоторые из них, зато пожар в Местечке поглотил все, что только было сделано из соломы и дерева, все, что могло сгореть, изжариться, испечься.
Погибло человек пять больных, много скота и все поголовье свиней. Понятно, что, пораженные таким бедствием, люди заняты причитаниями, и нет у них свободных мыслей, чтобы хотя бы одну посвятить… капеллану. Когда же пламя погасло и всюду лишь дымились пожарища, откуда-то, словно из-под земли, угрожающе грянуло:
— Это вам за капеллана!
Здоровенные мужики, еще орудовавшие баграми и ведрами с водой, затаили дыхание. В сердцах так и кольнуло. Здешний люд и без того переживал свою катастрофу куда болезненнее, чем гоштачане — наводнение. Местечане были богаче, высокомернее, и поэтому жизнь, равновесия ради, дала им невысокую способность переносить утраты. В обыкновенных условиях местечане не были суеверны. Но в доме богатого крестьянина суеверия сидят на шестке и ждут своего часа. И этот час пробил. Особенно у женщин стала раздуваться печень. Народ прямо вспух от гнева — точь-в-точь как, прости господи, пухнет божья скотина. Из истерзанных сердец местечских женщин вырвались упреки.
— Не могли уж оставить его, бараны, пусть бы себе устраивал свои кружки!
— За него страдаем!
— Это всевышний вступился за своего слугу, коли наши обормоты велели вывести его из села… чуть ли не в наручниках!
— Вот за это Иисус Христос плюнул — и смыл Гоштаки, дунул — и спалил Местечко!
— Да мы-то при чем?
Ответа не было. Но каждый из этой стонущей, причитающей толпы — охрипшие от ругани мужики, зареванные бабы с хныкающими детишками, которых оказалось гораздо больше, чем считали до пожара, — каждый думал одно и то же: «При чем? При том, что Зеленая Миса не вступилась за капеллана, когда собирали подписи на чистом листе бумаги!»
Люди отбросили багры, отставили ведра. Все равно ничего не спасешь. Так и стояли, бессильно опустив руки. Не для работы годны теперь эти руки — для драки!
— Тупоголовые!
— Сволочи!
— А еще твердят: мол, мы за свое село горой!
Недавно еще пылали крыши Местечка — и вот местечан стала жечь нечистая совесть. Однажды ее уже пытались, — хотя и безуспешно, — разжечь Гоштаки, которые очень медленно поднимались из болота. Совесть тружеников, тоже гневливая, но, прибитая к земле, не имела такого веса, не в


![Красное вино Победы[сборник 2022] - Евгений Иванович Носов](/uploads/posts/books/346516/346516.jpg)