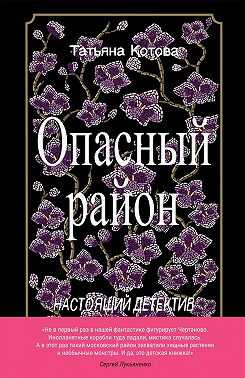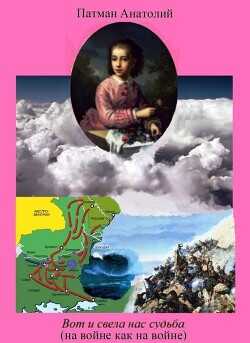с почерневшими остатками стен и труб — это и есть Местечко. Еще несколько дней назад — спесивое богатое Местечко. На площадке у Паршивой речки краснеет что-то новое: два ряда отстроенных домов, в большинстве уже покрытых черепицей. Это — бедняцкие Гоштаки. Сливницкий остановился, грустно проговорил:
— Зеленая Миса — конченое село. Думаете, его погубил паводок и пожар? Ой нет, не они одни. Я вижу тут другую беду. В другом месте жмет ее башмак. Вот она и встает на дыбы, бьется, противится и хлещет, как дракон хвостом…
— И высаживает окна! — недовольно бросил Габджа, мысленно проклинавший родное село за то, что оно на целую неделю оторвало его от неотложных работ.
— Да, высаживает и покупает новые…
— И прощения просит, — злобно добавил Эйгледьефка.
— Вот-вот! Но… не забывайте, что в Зеленой Мисе живут люди, которые вместо вина пьют ракию! От этого они такие неповоротливые. Боюсь, они и в нужде не дают себе труда задуматься. Оно и в Волчиндоле умных не так уж много, да наше вино позволяет нам нужду превращать в добродетель: когда мы страдаем, то страдаем набожно — так, что овчинка выделки стоит! А Зеленая Миса страдать не умеет. Вот увидите — захочет встать на ноги и другого пути не найдет, кроме векселей Жадному Волу…
— А ну их к черту! — от души пожелал Эйгледьефка того, что кем заслужено.
— Ничего не имею против, хоть сегодня! Но тогда к черту пойдет и кое-кто из наших. Волчиндол, — и это надо всегда помнить, — прилепился к Зеленой Мисе, как ласточкино гнездо к стене. Засыпь нас зимой снег — одна Зеленая Миса только и догадается, что надо нас откапывать.
— Маловато нас в Волчиндоле, — заметил Габджа.
Он, правда, родом из Зеленой Мисы, но уже успел почувствовать себя волчиндольцем. И он больше не пытается понять, за что Сливницкий так превозносит село, недостойное доброго слова. С малых лет что-то всегда тянуло Урбана прочь от этого нагромождения соломенных крыш…
— И маловато — и достаточно! Но сейчас не в том дело. На днях я думаю побывать в Сливнице, заглянуть в Блатницу, в Охухлов забежать. Рассчитываю — удастся мне раздобыть сто тысяч наличными…
Урбан и Оливер дружно вытаращили на Сливницкого глаза в глубочайшем недоумении. А тот продолжал:
— Не можем мы бросить зеленомищан на произвол судьбы. Видите ли, ребята, есть у меня мыслишка, что из кредитного товарищества, пожалуй, выйдет толк. Хорошо бы вы намекнули в Зеленой Мисе, что Жадный Вол уже занесен в поземельную опись… И можете смело заявить, что волчиндольский общинный виноградник выпускает шестипроцентные облигации!
Да, время, которое «бунтовщики» потратили на дорогу из окружной тюрьмы, не пропало даром. И хотя на ровном шоссе от Сливницы до Зеленой Мисы было много сказано и несущественного, сводившегося к каким-то непонятным интересам старого Сливницкого, все же именно тут следует искать корень переворотов, которые позднее постигли несчастный Волчиндол. А трое «господ» из Зеленой Мисы, по чьей милости трое волчиндольских «хамов» отбыли недельное заключение по политическим причинам, даже и не подозревали, что готовится.
Идея старого Сливницкого была набожнее любой проповеди настоятеля, ценнее контрактов нотариуса и искристее, чем лучшее вино Жадного Вола. Итак, семя, брошенное строптивым капелланом в комковатую зеленомисскую почву, дало ростки… на лиловом волчиндольском глее! Обыкновенное семя, невзрачное, ничего особенного… Что ж, ладно, пожалуйста, — только без всяких выдумок! И главное — никакой политики…
Старый Сливницкий, улегшись в постель поздно вечером и чувствуя, как постепенно отходят гудящие ноги, положил руки под затылок, до которого доставала его обширная плешь. Подумав немного, проворчал:
— Ну, погодите, медные лбы!
МИХАЛ ГАБДЖА
В воскресный день правление кредитного товарищества, разместившееся в волчиндольской общинной винодельне, собралось уже было кончать работу — время близилось к четырем, — когда явился Алоиз Клинчик из Зеленой Мисы с женой и сыном, уже усатым, а следом за ними вошел человек, которого старый Сливницкий очень сердечно приветствовал из-за своего казначейского стола:
— А-аа! Здорово, Мишо!
Тот, кого Сливницкий назвал «Мишо», шагая за Клинчиками, с одинаковым любопытством разглядывал людей и предметы своими глубоко посаженными глазами. Он в черном облегающем костюме, какие носят только старые зеленомищане, и в сапогах. Еще довольно густые, но совсем уже поседевшие волосы подстрижены по старой моде. И этот Мишо ответил Сливницкому:
— Доброго здоровья, Томаш!
Урбан Габджа, стоявший спиной к ним, — он, не садясь, записывал на подоконнике что-то в бухгалтерскую книгу, — резко обернулся, заморгал, кровь бросилась ему в лицо: в трех шагах от него стоял… отец и смотрел на него испытующе.
— Тата, вы пришли… — Он хотел подать руку, да не осмелился.
— Что ж, раз сын не приходит к отцу, отец идет к сыну, — громко посетовал Михал Габджа; но тут же, сжалясь над Урбаном, который, как-никак, находился «при исполнении обязанностей», поправился: — Ну, ладно, ты сперва кончай свои дела, Урбан, занимайся службой!
Урбан понял: последние слова отец умышленно сказал таким тоном, что их нельзя принять ни всерьез, ни в насмешку — это нечто среднее. И он обрадовался, что может скрыть свое смущение, уткнувшись в книгу.
С тех самых пор, как Урбан убежал из родного дома в «дикий» Волчиндол, он еще и словом с отцом не перемолвился. Сам мучился от этого, но не сдавался. Когда ему грозила встреча с отцом — он или делал крюк, или возвращался, хотя и сам понимал, что нет ничего подлее, чем такое обращение с родителем.
Когда Клинчики положили деньги в карман, а Михал Габджа в качестве поручителя подписал их долговое обязательство, они церемонно поблагодарили, особенно старого Габджу, и вышли вон. А поручитель остался и, прочно став посреди винодельни, дивился ловкости, с какой Сливницкий и Урбан «закрывают» кредитное учреждение.
— Так вот он, ваш банк!
— Он самый, — простодушно признал Сливницкий.
— И мой сын в нем — счетовод!
— Ага, — спокойно ответил Апоштол.
— Сколько же тебе платят, сынок?
Урбан видит: отец не смотрит на него. Задает вопросы рассеянно и ответов не слушает — ему все равно, что ответят; Урбан чувствует: отец смеется над ним, хочет его унизить. Но Урбан ошибается. Михал Габджа хочет услышать голос сына, хочет, чтобы тот ответил, все равно — с охотой или с недовольством: ему одинаково милы оба оттенка Урбанова голоса. И Урбан отвечает с легкой грустью:
— Мне ничего не платят. Все мы тут работаем даром!
— Вот ка-ак? — притворно удивляется старый Габджа, направляясь к выходу. За ним выходят Урбан и оба деятеля кредитного товарищества — Сливницкий с Апоштолом; запирают винодельню. Старый Габджа прощается с ними, вполне искренне сожалея, что они недостаточно настойчиво приглашают его к себе


![Красное вино Победы[сборник 2022] - Евгений Иванович Носов](/uploads/posts/books/346516/346516.jpg)