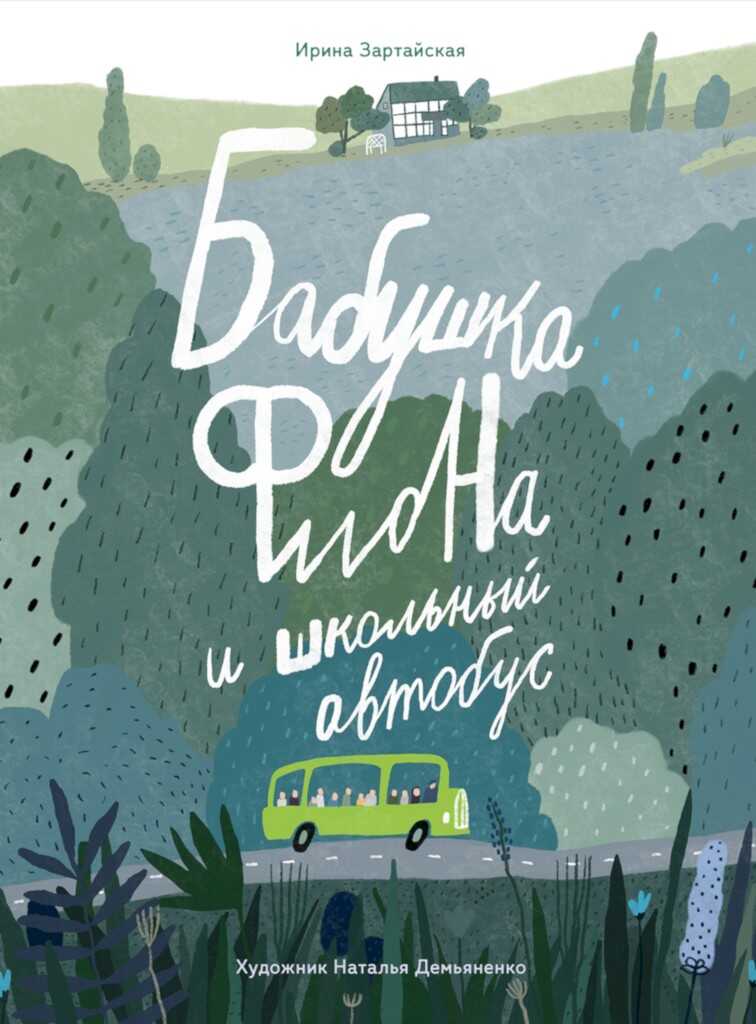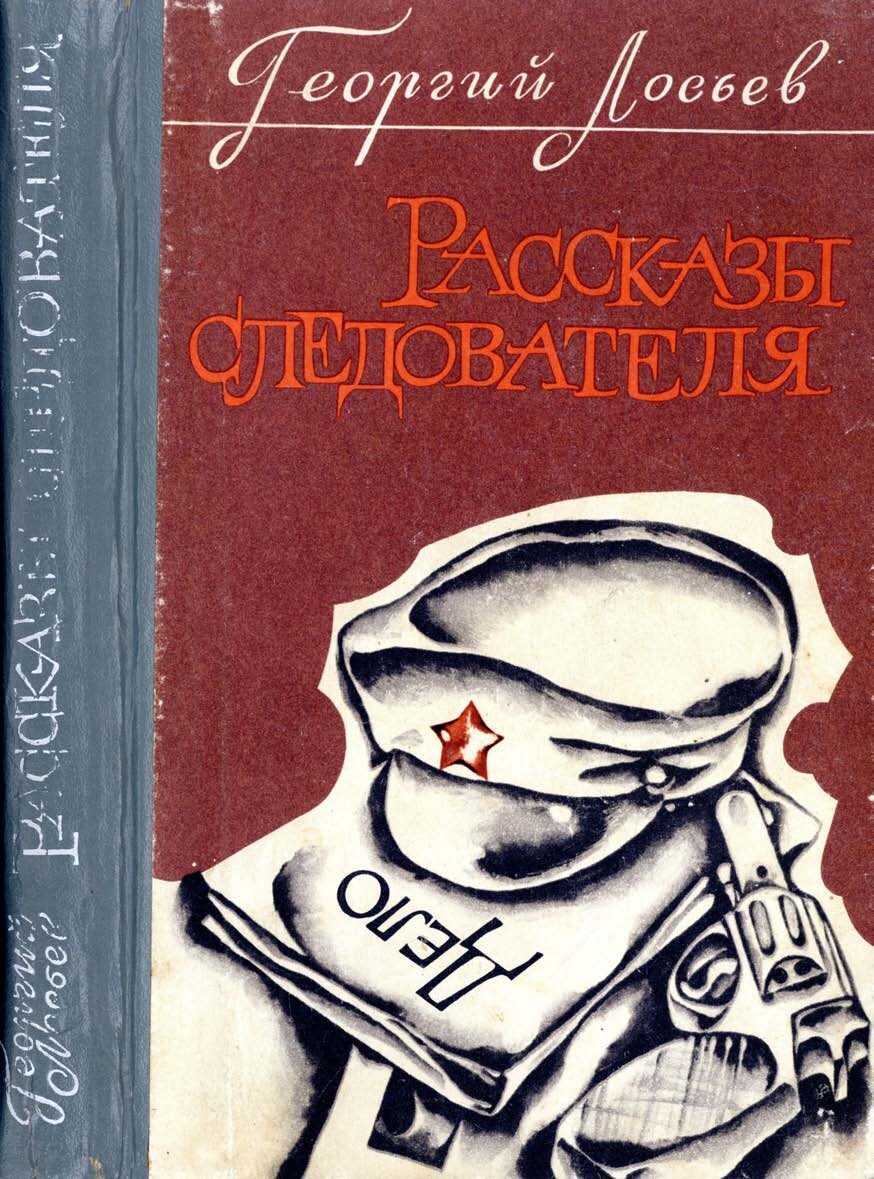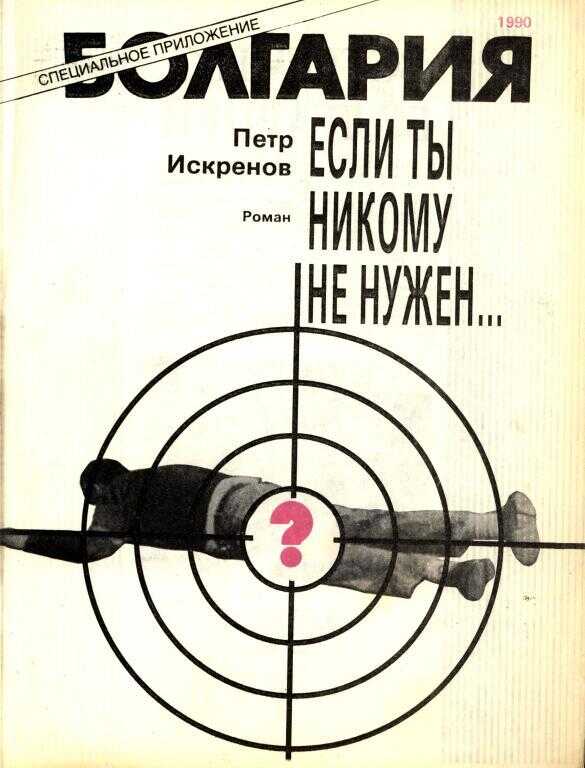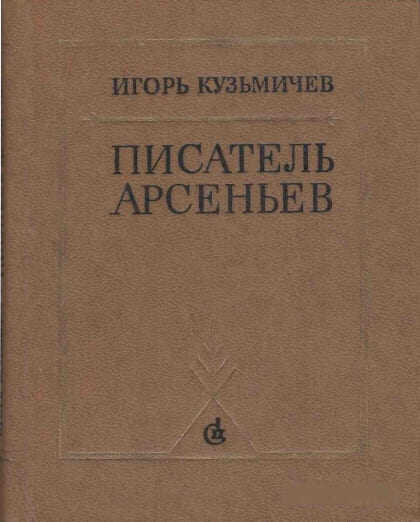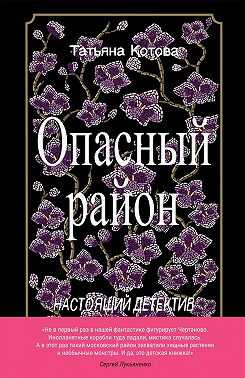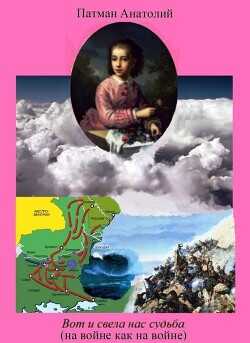в винные погреба; а его отказ несколько раздосадовал и Сливницкого и Апоштола, потому что они, по их словам, рады были бы такому гостю. Но старый Габджа заявляет, что зайдет как-нибудь в другой раз, после чего кладет руку на плечо сыну и весело добавляет:
— А теперь, Урбанко мой, покажи мне свои виноградники. Думаю, есть у меня еще право посмотреть, как мой сын делает вино и каково оно, это вино!
Урбан вздрогнул, услыхав неожиданное предложение. Повел отца через Волчиндол к своему участку на Воловьих Хребтах. Не думал он, что отец так далеко пойдет ему навстречу. Урбан, правда, собирался пригласить отца, но старик опередил его — сам напросился.
— Три… нет — четыре уже года слышу о тебе одни похвалы. Говорят: «Урбан Габджа свое дело знает!» И еще: «Вино Урбана Габджи на языке искры мечет!» А то еще так: «Один только зеленомищанин поумнел, да и тот — Урбан Габджа из Волчиндола!»
— Да ну, что вы такое говорите, — отнекивается смущенный Урбан, но в груди его разливается приятное тепло. Только теперь, он заметил, что отец постарел, осунулся, сгорбился немного…
— Только мы с матерью… только я не могу похвалить тебя… Эх, зачем ты от меня убежал! Убежал, как батрак от хозяина, как… просто через забор сиганул. Неужто уж я и слова не заслужил: так, мол, и так, ухожу я, а ты живи как хочешь! — Старый Габджа изо всех сил старается проглотить что-то жесткое, косматое и скользкое, что стало у него поперек горла. — А все та тебе голову задурила…
Старик не видит лица сына, но по его дыханию чувствует, что сказанного хватит, нельзя больше говорить об их разрыве: ему хочется вместе с сыном осмотреть его виноградники.
— Да что нам, Урбанко, до старых грехов. Пойдем-ка к винограду! И к бочкам!
Они двинулись дальше, разговаривая о будничных делах. Обогнув Бараний Лоб, поднялись на Воловьи Хребты. Солнце клонилось к закату. Оно слало теплые лучи, чтоб согреть сентябрьский вечер, позолотить весь край, заросший виноградной лозой и деревьями, как давно не бритое мужское лицо — щетиной. Желтели плоды на грушах и яблонях. Деревья казались еще красивее оттого, что были густо увешаны плодами; приходилось подпирать ветви кольями либо подвязывать их друг к другу.
— Почем яблоки?
Старый Габджа смотрел во все глаза, переходил от дерева к дереву, явно пораженный. Каждая ветвь, веточка, даже юные саженцы, торчащие из земли, несли на себе плоды.
— Сейчас я их продавать не стану. Сберегу до зимы. Тогда, пожалуй, дороже возьму.
— Слыхал я — ты хороший садовод. Верно это, Урбан. Но ты еще и купец.
Урбан улыбнулся. Он наблюдал за отцом, который как будто нарочно напускал на себя удивленный и восхищенный вид. Но Урбан не сердился на отца за это. Однако Михалу Габдже и на ум не приходило разыгрывать изумление: он действительно был изумлен! Забежал в соседний виноградник, во второй, в третий, в четвертый — выше и ниже Урбанова, вернулся; и хотя он вполне серьезен — улыбка расплывается у него по лицу.
— Поди, много пришлось поработать, Урбанко?
— Да нет, тата, это у меня вроде как бы забава. Вот теперь, перед сбором урожая, и вовсе отдыхаю. Ночи напролет брожу по виноградникам — то на Волчьих Кутах, то на Воловьих Хребтах. Караулю.
Старый Габджа смотрит на сына, остановившегося в междурядье, и не может глаз оторвать от его одухотворенного лица.
— Такой здесь обычай — караулить. Тут даже и не столько воруют, сколько караулят. Будто урожай искупаем: когда обещает хороший — стережем как следует, когда плохой — спим по шалашам.
— И ты доволен, сынок?
— Когда я ушел… убежал… из дому, то понял: большая радость от смелого поступка. С тех пор действую смело. И в том нахожу радость… У вас я был бы не так доволен жизнью.
Михал Габджа поднялся до самого верха Воловьих Хребтов и пошел обратно. Он уже не осматривает зреющие гроздья, не срывает листья, не пробует мякоть ягод. Просто — идет. Смеркается; на небе открываются первые звездочки-глазки. Спустившись на дорогу, ведущую мимо Бараньего Лба к Волчьим Кутам, Михал Габджа постоял немного, сделал несколько шагов и снова остановился… У часовенки святого Урбана, откуда уже за деревьями можно разглядеть домик с красно-голубой каймой, Михал два раза вздохнул и остановился, словно против воли.
— Ты уж не взыщи, Урбан… Домой мне пора.
С первой встречи отношение старого Габджи к Кристине всегда было враждебным. Но слово «враждебность» неточно. Правильнее будет сказать — «непреодолимая антипатия». Никогда не мог бы он себя заставить сказать ей теплое слово, ни разу ни о чем не спросил, ничего не приказал, никогда не обращался к ней прямо. На вопросы ее отвечал односложно, и нехорошо у него бывало на сердце, когда приходилось даже так отвечать невестке. А Кристина глубоко страдала, видя и чувствуя, как нежеланна она родителям мужа, как обрываются в самом начале все ее попытки установить со свекром более или менее сносные отношения.
Урбан сначала думал — отец согласится посетить его дом, но хочет только, чтоб его подольше просили. Это было не так. Старый Габджа не мог с собой совладать. Что-то в нем вставало на дыбы, противилось. Ноги не поднимались, не шли к Урбановой хате… Урбан и просить пробовал:
— Право, пойдемте! Хоть детей повидаете… прошу вас…
Он говорил ласково, и это тронуло старика. Словно колеблясь, постоял он с минуту, опустив голову, — сгорбленный, старый.
— Поверь мне, Урбан, — хочу я, и не могу! — с болью ответил он наконец.
— Из-за Кристины? — спросил Урбан о том, что давно уже знал и сам.
Долго молчал старый Габджа. Потом уже, когда молчание стало тягостным, он уклонился от ответа новым вопросом:
— А дети здоровы?
Урбан ощутил горечь во рту. Он рад, что уже стемнело. Что люди не видят, как родной отец поворачивает назад от его порога. И рад, что отец не видит, как покраснел он от гнева и стыда. Он почувствовал вдруг к отцу незнакомое до сих пор отвращение. Все, что еще привязывало его к отцу, — а это было уже одно только уважение, — теперь рухнуло под напором злого отчаяния. С трудом сохраняя самообладание, он процедил сквозь зубы, немного презрительно:
— Насильно тащить вас не стану!
А старый Габджа будто только и ждал этих слов: они позволили ему двинуться по дороге в Зеленую Мису. Урбан хотел было без слова, без прощания пойти своей дорогой, но злоба удержала его. Язык его отяжелел — так много надо было высказать отцу, прямо, по-мужски, без уверток и ложного стыда. И он пошел


![Красное вино Победы[сборник 2022] - Евгений Иванович Носов](/uploads/posts/books/346516/346516.jpg)