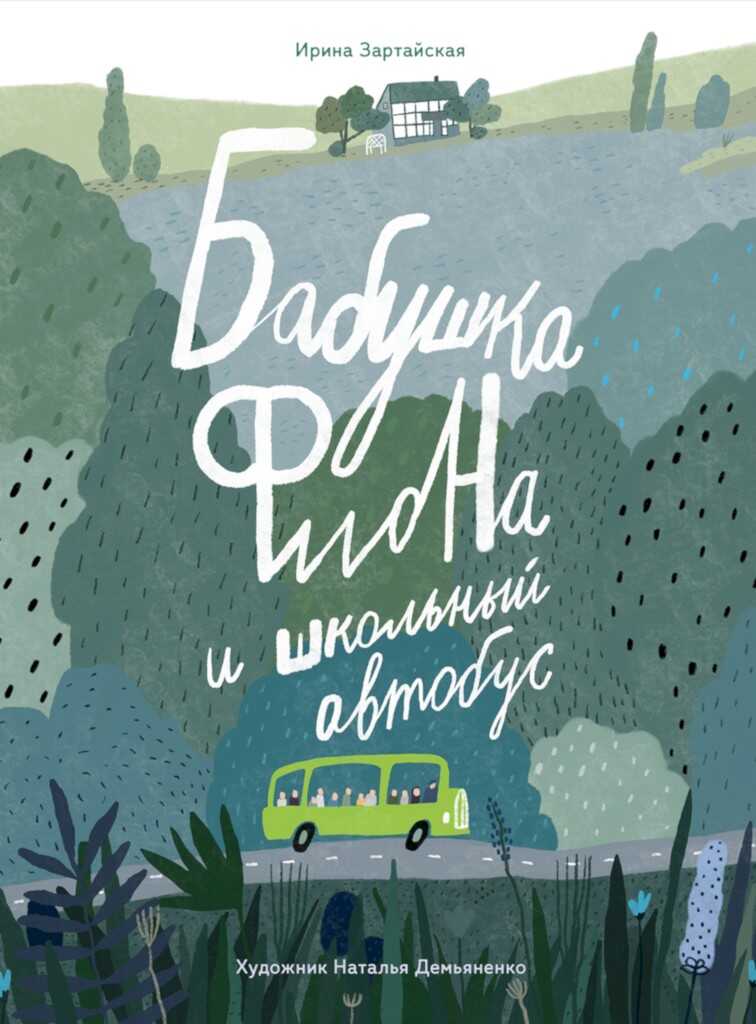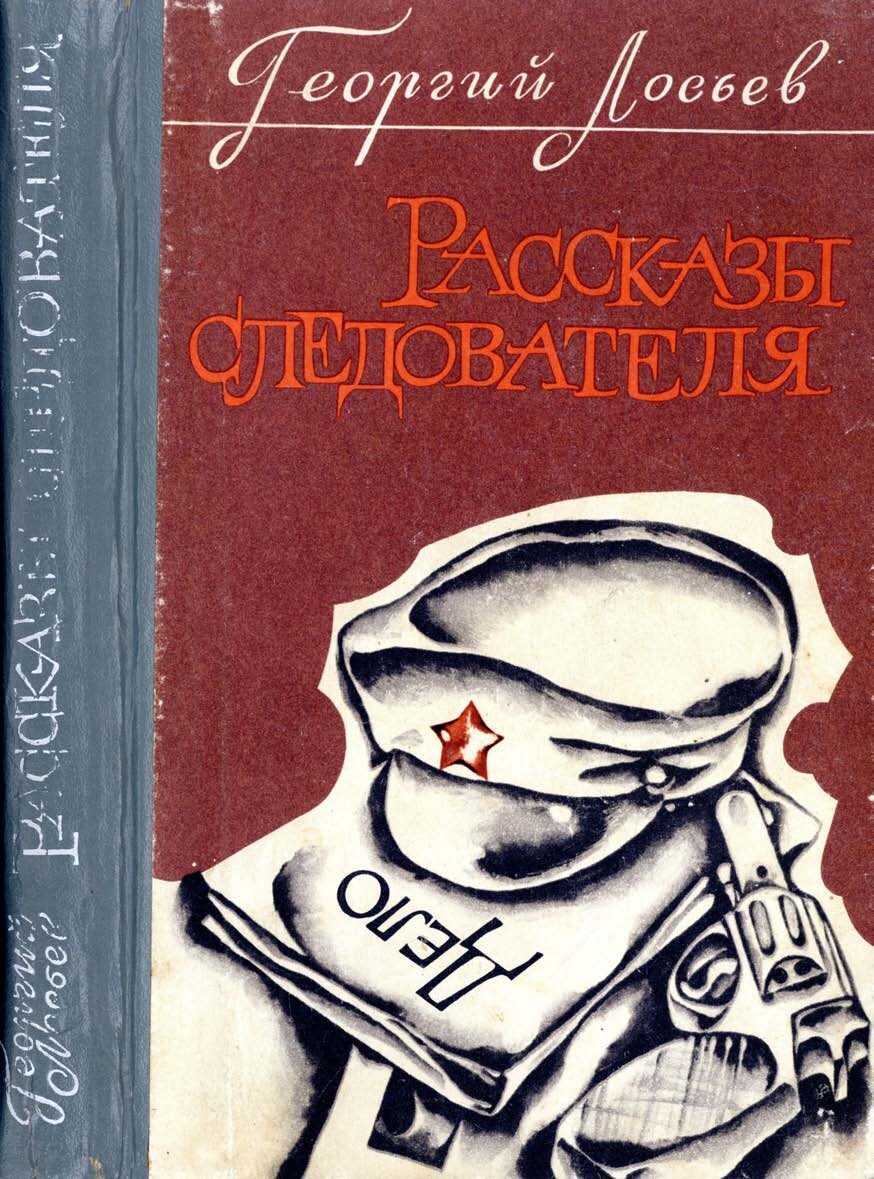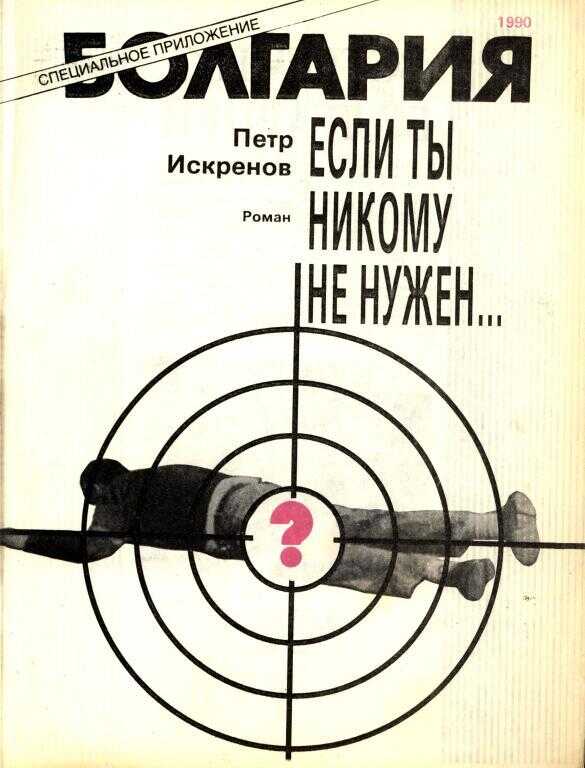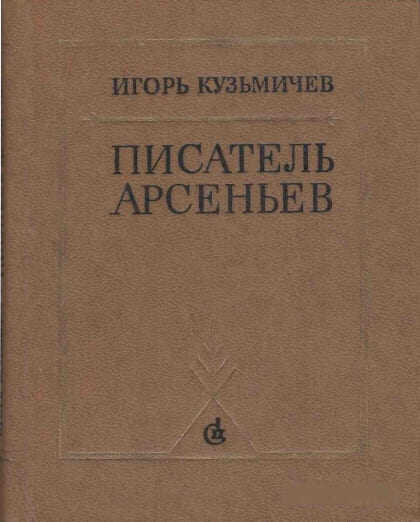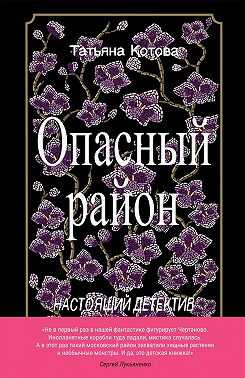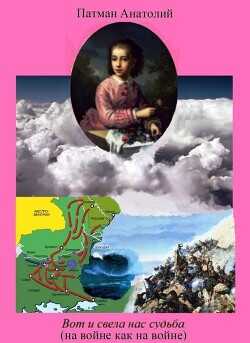силах была так возмутиться, как ее близнец из Местечка. Ибо житель Местечка при виде трех уцелевших домов, заносчиво и властно возвышавшихся позади костела, не мог не подумать, что эти три дома насмехаются над пепелищем!
Большинство погорельцев с семьями еще в ту же ночь — беда случилась накануне Петра и Павла — разбрелись кто в Гоштаки и в Волчиндол, кто в Охухлов, Углиско и Блатницу; оттуда с грохотом прикатили телеги и развезли местечское несчастье на все четыре стороны. И все же среди пожарища осталось человек двадцать легко воспламеняющихся обывателей, измазанных сажей, оборванных, кое-кто был даже с серьезными ожогами; эти граждане, не сговариваясь, собрались в корчме «У Жадного Вола», перепились и за ночь высадили десятка два окон вместе с рамами в домах прихода, сельской управы и в самой корчме.
Это было неумно.
Через два дня в Зеленую Мису примаршировало войско. Разбило палатки и не двигалось с места, пока не увели в наручниках дюжины две местных жителей.
Среди арестованных шагали трое из Волчиндола: Томаш Сливницкий, Оливер Эйгледьефка и Урбан Габджа. Как-то, идя по дороге, они болтали, о чем не следовало, — и не заметили, что за ними лисой крадется Шимон Панчуха…
Двадцать одного зеленомисского «разбойника» отпустили из сливницкого «арешта» после двух дней отсидки в комнате первого этажа городской ратуши. Там была свежая солома, приятный холодок и вволю еды. Для зеленомищан это был превосходный отдых. На третий день в присутствии окружного начальника, который дружески окликнул их: «Ну как, разбойнички?» — они просили прощения у благородного господина нотариуса, достопочтенного отца настоятеля и «молодого хозяина», Жадного Вола, обещали возместить ущерб «под страхом двухнедельного заключения» и впредь вести себя примерно. Итак, не произошло ничего особенного. У триединого зеленомисского начальства не было мстительных намерений. Совершенно в духе новейшего права оно лишь преследовало воспитательные цели, наказывая таким образом «разбойников». Ведь всем было ясно, что половина их — просто неотесанные парни, а вторая половина — люди неопределенной натуры; таких можно спокойно поставить на площади, а через неделю найти в том же положении, ожидающих, когда за ними придут. Да кто же еще решится высаживать окна, как не мужичье, нализавшееся ракии?
Зато трое волчиндольских «бунтовщиков» посидели в Сливнице недельку. Их допрашивали три важные шишки: окружной начальник, жандармский начальник и «какой-то еще», специально вызванный из Западного Города. Только по разным запутанным вопросам этого последнего наши «бунтовщики» и догадались, в чем их обвиняют, что хотят от них выведать и что донес на них Панчуха. Обходились с ними хорошо, и питание было приличное. Каждому отвели отдельную комнату. И допрашивали их каждого в отдельности. Тюремщики силились выведать у них, что им известно о «преступлениях» волосатого капеллана, и не связывают ли их с ним какие-нибудь заслуживающие внимания интересы.
После недельного заключения все трое сошлись в кабачке Гната Кровососа. Заказали вина. Первое слово предоставили звонким стаканчикам.
Сливницкого, Эйгледьефку и Габджу обвиняли в подстрекательстве и подозревали в панславизме — что, конечно, не очень их удручало, потому что этим кнутом сливницкие власти хлещут всякого, кому хотят заткнуть глотку. Но молодых злило, что им особо велели просить прощения у зеленомисских греховодников, причем — в течение месяца, если они не хотят угодить под суд. От Сливницкого этого не требовали. Стар он, чтобы просить прощения.
— А что будет, если не попросим? — интересуется Оливер.
— Дадут месяц-другой отсидки, — отвечает Урбан.
— Не думайте вы об этом! — вмешивается Сливницкий. — Наш арест — просто комедия! Больше ничего не будет…
Габджа поежился, рябое лицо Эйгледьефки выразило удивление. Видя, что оба собираются заговорить, Сливницкий жестом остановил их.
— Поверьте мне — ни прощения просить вам не надо, ни к суду вас не притянут! Арестом тут и не пахнет… Слишком трусливое у нас начальство. Немногим дальше носа видит, это нам и надо иметь в виду…
Сливницкий помолчал, вытащил из кармана трубку, набил ее табаком и, не зажигая, сунул в рот. Посасывая незажженную трубочку, он подбирал слова, чтобы пояснить свою мысль:
— Не стоит отбегать слишком далеко от наших господ. Бог с ними, пусть видят, что мы делаем. И не надо браться за дела слишком высокие — сучить не длинные веревки, а покороче, да побольше. Не дразнить гусей!
— Да ведь по-хорошему-то можно только с хорошим, а что ты сделаешь с такой сволочью, пока не двинешь ему в зубы?
— Цыц, Оливерко! Капеллан во многом на тебя похож был — он и сломал себе шею как раз на том, что очень уж вокруг себя плескал, не умел втихую действовать. Вот и заклевали его.
— Вороны!
— Верно говоришь, Урбанко. А я вот за ту неделю, что просидел без дела, задумался малость о нашем труде, о муках наших и бедах, что надвигаются на нас, о людях, что живут в тридцати трех хатах Волчиндола. Заглянул я мысленно в каждую душу волчиндольскую, и белую, и черную, и полосатую! И могу сказать — есть среди нас два-три негодяя, которые отворачиваются от своих ближних…
— Например? — поинтересовался Габджа.
— Сильвестр! — брякнул Оливер.
Сливницкий покосился на обоих своих собеседников и, довольный, что они еще не поняли, куда он гнет, продолжал:
— И вот надумал я, сидя под арестом, что мы могли бы того… сообща…
Он помолчал, словно его пугала мысль, которой он собрался поделиться. Зажег трубку, сплюнул.
— Могли бы, к примеру, вы двое… ну и, конечно, я с вами… скажем… действовать сообща…
Урбан с Оливером, ожидая от Сливницкого чего-то настоящего, такого, что можно взять в руки, чем можно хорошенько стукнуть кого-нибудь или по меньшей мере отрезать ломоть хлеба, насторожили уши, пристально воззрились на старика. И Сливницкий почувствовал — пора повысить голос. Он вынул трубку и оглядел просторную залу корчмы.
— Ребята, мы должны защищаться! Выручать друг дружку. И крепко держаться, не отпускать узду.
Мысль его еще не вылилась в определенную осязаемую форму, но уже приобрела вес и остроту. Если б это сказал другой, не Сливницкий, да в иной обстановке, не тотчас после ареста, — слова так и остались бы словами. Но в эту минуту обоим молодым волчиндольцам показалось, что такая мысль — по крайней мере дубинка им в руки, если уж не нож!
Когда потом, выбравшись из корчмы, они направились по шоссе к Зеленой Мисе, молодые шли по обе стороны Сливницкого, положив себе на плечи его руки; впечатление было такое, словно эти двое ведут парализованного старца.
Говорили о самом разном. Дойдя до распятия, в том месте, где Сливницкая равнина приподымается, образуя пологий холм, увидели пепелище Зеленой Мисы — оно лежало у их ног. Развороченный муравейник


![Красное вино Победы[сборник 2022] - Евгений Иванович Носов](/uploads/posts/books/346516/346516.jpg)